ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
II Южно-Уральской литературной премии
- Номинация
"ПОЭЗИЯ"
(Талантливая
молодежь) - Номинация
"ПРОЗА"
(Талантливая
молодежь) - Номинация
"КРАЕВЕДЕНИЕ" - Номинация
"ПОЭЗИЯ" - Номинация
"ПОЭЗИЯ" - Номинация
"ПРОЗА" - Номинация
"ПРОЗА"

29 марта стали известны лауреаты самой значимой и престижной литературной награды на Южном Урале. В большом зале Законодательного собрания Челябинской области состоялась торжественная Церемония награждения лучших участников конкурса на соискание II Южно-Уральской литературной премии. Победители получили статуэтки, дипломы и денежные призы.
Лауреатами II Южно-Уральской литературной премии стали:
В номинации Поэзия (категория «Талантливая молодёжь»):
Елена Егорова, г. Копейск (Челябинская область) – за поэтическую экспрессию в книге стихотворений «Камни в горле»
В номинации Проза (категория «Талантливая молодёжь»):
Анастасия Кольцова, г. Оренбург – за продолжение традиций художественного реализма и духовного поиска в повести «Умереть за Христа»
В номинации Краеведение:
Майя Дудко, г. Челябинск – за историко-литературоведческое исследование жизни и творчества поэта Михаила Чучелова в книге «Обретение поэта»
В номинации «Поэзия»:
1. Юрий Седов, г. Челябинск – за глубину духовной гармонии в книге стихотворений «Планета судьбы»
2. Ирина Аргутина, г. Челябинск – за поэтическое мастерство и стойкость в книге стихотворений «На честном слове»
В номинации «Проза»:
1. Светлана Чураева, г. Уфа (Республика Башкортостан) – за искусный сплав эксперимента и традиции в рассказе «Чудеса несвятой Магдалины»
2. Сергей Поляков, г. Верхний Уфалей (Челябинская область) – за одухотворение глубинной жизни Урала в сборнике прозаических произведений «По последнему льду».
Елена ЕГОРОВА, г. Копейск (Челябинская область) |
|
| *** – "Бездарные дети, бездарные" – Да! Бездарные. Залезьте хоть в одного из нас, говорящий. В нас так всё заходится удареньями, а вы безударные. Вы – гниющие. Мы – на огнях горящие. Есть принципиальная разница, попробуй, ну, разударь меня. Сударь, мы – поющие. Вы – говорящие. Вы – кричащие. Мы – разорванные аорты. Мы – живые и мёртвые – И всё равно горящие. Взгляд вниз с холма. Свободнее грома, молний, Трава подо мной да камни, Наверно. Не утверждаю. Внутренне – важный чат Мол, ему хочется так вопить и кричать, Будь ты староста, врач, или там культорг, Сердце борется всё за жизнь, стуча. А раз так, Бе-з-верье Кто тебя оставлял с завязанными глазами Прятала в рукава – руки, в глаза – образ, Пальцы прятала в кольца, а волосы – в танцы. Если клетка чуть золотистей, да поплотней, Как устоять на ногах, если давно нет веры. Если смогу здесь выжить – мне можно похлопать. Целительные слова Можешь ли ты поклясться, что этот мир – не зря? Нет, я не стану взрослой куклой на чердаке, И лишь затем я ночью молча пишу слова, Но я дышу. Дом Там, может, тепло, уют, Там за любовь нет плат, Там – это так далеко. Там, откуда клубит дым, иЛи Лучше? Или всё блажь и ложь, кроме неё одной, верной до гроба нам. Не то страхом палима скребёт нутро, не то счастьем, которого больше не... То взлетаешь, крыльями... быстро так, словно ранне-бескрылый кудрявый Персей, То пустырь внутри, гниль, да гам орлов, и гиены на запах бредут поживиться. Мы совсем одни в этом мире снов, «Девятнадцато и глумливо» Abest, abest – меня здесь нет, мне «девятнадцато и глумливо», Я полна (по массе) и полна духовно. Мир мне слишком скучен Май загружен с горлом, май конец начала. Год до "где бы деньги...", год до "кто я, мама...", Лишь бы мир был тесен, тем и интересен. Ты же чуешь небо, эй, предатель слева, так что, брат, умолкни, мне домой пора.
|
Небольшая элегия Уснули с ним: поэт один, Уснул портрет, уснуло всё внутри, Он в воздухе заснул, прорезав пыль. Уснул и ты. Как будто, спал всегда... Становятся со смертью. Песни все Уснула муза, музыку забыв, Взрывообразное То, значит, чувства все (а жизнь тем более) Но если бы не ты, то кто б меня впустил *** Const И воздух давит с силой на грудь, Я моно*, видно. И моно const**. Теперь бежать – это всё, что есть. Кому нужна я – "социопат"***? И если это – моё ярмо, *один (одна) Душа и вечное люблю Пустынных улиц ожиданье И пропасть лет, и расстоянья И трепет голубей и снега И мы, как прежде, до восхода – Под абажуром лунной тени, И распластаются по телу Но чувство долго не покинет Тепло-та-м А ты ответишь, что мои лишь руки греют... А ветер нам подует: "Спи-те, де-ти". Как море – изнутри – обнимет берег. Чтоб их согрели руки человечьи. *Д. Воденников Лайт И он бы гулял в ночи, раздумывал о своём, Поил бы красным вином и яствами угощал; – Я грешник, и за грехи мне вряд ли заслуга – рай, Проткнули меня, как скот, и выбросили в сугроб. Ну, где ты мой смертный час? И где ты мой верный пёс, Где буду гулять с тобой и рядом бродить в ночи... ...Так больно смотреть назад... Но тут яркий свет в глаза... И он кричит: "Лайт! Мой Лайт!" |
Анастасия КОЛЬЦОВА, г. Оренбург
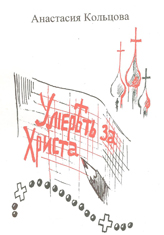 Кольцова Анастасия Сергеевна родилась в г. Оренбурге в 1993 году. Учится в педагогическом колледже им. Калугина на отделении изобразительного искусства и черчения. Стихи публиковались в альманахе «Гостиный двор», газете «Вечерний Оренбург», коллективном сборнике «Здравствуй, это я!». Лауреат всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка» (2008 г.), областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга» (2007, 2008, 2009 гг.), участник шестого международного совещания юных литературных дарований (2009 г.), лауреат литературного конкурса имени Валериана Правдухина (2010 г.).
Кольцова Анастасия Сергеевна родилась в г. Оренбурге в 1993 году. Учится в педагогическом колледже им. Калугина на отделении изобразительного искусства и черчения. Стихи публиковались в альманахе «Гостиный двор», газете «Вечерний Оренбург», коллективном сборнике «Здравствуй, это я!». Лауреат всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка» (2008 г.), областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга» (2007, 2008, 2009 гг.), участник шестого международного совещания юных литературных дарований (2009 г.), лауреат литературного конкурса имени Валериана Правдухина (2010 г.).
Лауреат II Южно-Уральской литературной премии d номинации Проза (категория «Талантливая молодёжь») - за продолжение традиций художественного реализма и духовного поиска в повести «Умереть за Христа»
УМЕРЕТЬ ЗА ХРИСТА
Отрывок из повести
* * *
Чем сегодня после уроков занимаетесь? – как и обычно на инглише, Ксюха беседовала с Саньком за последней партой.
– Может, поотрываемся на бабульках из соседнего двора?
Почти весь прошлый год самая продвинутая часть Ксюхиных одноклассничков пробухала в беседке, находящейся неподалёку от школы. Вечно сидящим на лавочках бабушкам это было очень не по душе.
– Какое там поотрываемся, даже на сигареты денег нет, – вздохнул Санёк.
– Чо ты паришься, можно и без выпивки, не впервой в банкротах, – Ксюха откинула с глаз давно не стриженую чёлку.
– Не-а, у нас дела, – хитро улыбнулся Санёк. – Ни я, ни Колян, ни Лёха сегодня не можем. Блин, Максимка где-то прогуливает…
– Это что ещё за дела таки, а? Колись.
– А зачем тебе наши дела знать? – подозрительно глянул из-под длинных ресниц Санёк.
– Кореш я тебе или нет? – Ксюха надула губы, отвернулась и открыла учебник.
– Кореш-то кореш, только зачем тебе в дела наши пацанские соваться, – прошипел Санёк, заметив, что Ксюха не на шутку обиделась – уже минуты две старательно следит за текстом, читаемым отличницей Олей.
– Ну почему ты не можешь сказать? Ведь, не к тёлкам идёте, знаю, денег у вас, и правда, нет. Значит ничего такого, что нужно было бы от меня скрывать.
– Ну ладно, уговорила, – Санёк открыл тетрадь по инглишу и написал на полях: «После уроков с парнишкой разбираемся».
– Здорово, – Ксюха открыла свою тетрадь и написала на внутренней стороне обложке: «Что за парнишка?»
«Панк из соседней школы», – Санёк тоже стал писать на обложке.
– А меня возьмёте?
– Ты что, сдурела? Что ты там делать будешь? – возмущённо зашептал Санёк.
– Ну возьмите, я же вам не помешаю…
– Я, может, и взял бы, но я же не один там буду.
– А что, Лёха с Коляном, скажешь, меня не возьмут?
– Там ещё парни из параллельного класса будут.
– Уговорим.
– Слушай, Ксюх…
– После-едняя парта, а, последняя парта, мы вам не мешаем? – воззвала Алла Александровна к совести Санька и Ксюхи. Отличница Оля прекратила читать текст, с ехидным интересом глядя на болтающую пару. Её острого языка и скептического взгляда поверх очочков девятый «В» боялся куда больше, чем гнева всех учителей вместе взятых, так что пришлось создать видимость раскаяния.
– Всё, Алла Александровна, молчим, – прижал палец к губам Санёк и продолжил слушать Ксюху.
– Ну, кто там ещё будет?
– Ну, Васиф, Пашок, Женёк…
– Значит, если они согласны, то not problems ? – блеснула Ксюха знанием английского.
– Вот и разбирайся с ними, – Санек благодушно потянулся, как будто гора с плеч свалилась, и улёгся за парту до конца урока.
– Пашок, а Пашок, – на перемене перед последним уроком Ксюха подошла к кабинету параллельного класса и отозвала в сторонку крепкого светловолосого парня с личиком Ивана-царевича и взглядом маньяка, – говорят, у вас какая-то заварушка намечается.
– Салют, кореш, – Пашок по-дружески приобнял Ксюху. – И кто это тебе натрепался?
– Ну, зачем, вдруг ты его побьёшь, – голосом какой-то шалавы из любимого Ленкиного сериала промурлыкала Ксюха.
– Какой ты доброй стала, – хмыкнул Пашок. – Что надо-то?
– Ну, я хочу с вами пойти, – откровенно призналась Ксюха.
– Что тебе делать-то там? Он нам накосячил, нам будет отвечать. Девкам ни к чему поблизости крутиться.
– Пашок, ну неужели ты забыл, как мы бухали вместе, как нас к директрисе вызывали?
– Помню-помню, – счастливая улыбка озарила Пашкино курносое лицо, – я у неё ещё окно разбил, и возле стола упал, такая хохма была… Ну, можно тебя взять, раз так поглядеть на дела наши неймётся, только надо с Васифом, орлом горным поговорить, он у нас за главного.
Васиф недавно по России золото взял и считался первым боксёром школы, а по совместительству довольно авторитетным парнишкой на районе.
– Беру, – окинув Ксюху оценивающим взглядом угольно-чёрных глаз, гортанно сообщил Васиф. – Она нам подходит. – И раскачивающейся походкой авторитета пошёл куда-то на улицу.
– Ну, значит, после уроков подходи вместе с вашими к углу школы, – Пашок насмешливо взглянул на Ксюху. – А Васифу ты понравилась. Смотри, осторожней с ним, он парнишка серьёзный. Интересно, зачем только ты там ему понадобилась.
После уроков вместе с Дылдой-Коляном, Лёхой и Саньком Ксюха отправились в «нашу курилку», – так курящие ученики называли угол школы. Васиф, Пашок и Женёк были уже там. Пашок курил, некурящие Васиф с Женьком стояли руки в карманы, о чём-то тихо переговаривались.
– О, Ксюха, молодчик, – приветливо осклабился Женёк, тощенький неказистый пацан в провисающих на уровне колен джинсах. – Не боишься идти с плохими мальчиками, а?
– А наша Ксюха с плохими мальчиками не ходит, – Пашок неторопливо затянулся сигаретой, – правда же Ксюх?
– Ага, – кивнула Ксюха. – Курить есть?
Покурив, не спеша отправились к соседней школе, находящейся на параллельной улице.
– Наш клиент недавно кабинет биологии поджечь пытался, правда неудачно, училка поймала, когда окурок дымящийся в шкаф запихивал, – начал вводить в курс новоприбывших Женёк. – Дело не завели, зато теперь каждый день после уроков родную школу драит. Мне тут один пацанчик должен позвонить, сказать, как закончит. Мы эту поломойку в кустиках возле школы подождём. Ты, Ксюх, позовёшь парнишку, а то вдруг он к нам подходить не захочет. Скажешь там что-нибудь… Ну, например, что… – Женёк задумался.
– Ну, придумаю по ходу, – Ксюха подтянула висящие на бёдрах джинсы, застегнула ветровку, день был довольно холодный. – Подозвать к вам и всё?
– А дальше уж наша забота, – улыбнулся Пашок, четвёртый год посещающий секцию самбо.
– Женёк, помнишь, ты говорил, вы с Васифом новый реп записали, дай послушать? – попросил Колян.
– А, да, щас найду, – Женёк полез в карман за мобильником. – Васиф текст сочинил, у меня как обычно записали. Ты же наш прошлый слышал?
– Прошлый да, прикольно получилось.
До соседней школы шли, слушали этот новый реп. Ксюха запомнила только, что говорилось о каком-то мудром старце, который «нас создавая, не знал, какими мы станем», а дальше осуждались проституция и наркомания. Дойдя до соседней школы, пацаны уютно устроились, присев на корточки в кустиках с ещё не облетевшими бурыми листьями, Ксюха присела вместе с ними. Зазвонил Женьковский телефон.
– Ну, Ксюх, давай, подзови его сюда, – велел Женёк, выслушав донесение «пацанчика». – Он сейчас должен из школы выйти, такой сивый петух с гребнем.
И Ксюха, поднявшись из кустов, не спеша пошла к школьным воротам. По пути расстегнула оранжевую ветровку, молнию на блузке почти до пупка, глянула на своё отражение в большом школьном окне и осталась собой вполне довольна. Лязгнула тяжёлая деревянная дверь, и, зашуганно озираясь, торопливо вышел парень в чёрной косухе, чёрном шипастом ошейнике и с причесоном в виде стоящего гребня.
– Мальчик, а мальчик… – жалостливо прошептала Ксюха, зажавшись так, чтобы красный Ленкин лифчик виднелся из-под расстёгнутой блузки лишь чуть-чуть. – У меня тут молния на кофточке сломалась, ты бы не мог помочь?
Сначала панк ошалело взглянул на Ксюху, потом по его невесёлому лицу поползла двусмысленная улыбка.
– Ну, понимаешь, у меня мама дома, и если я так приду, она ещё подумает чего… – опустила глазки Ксюха. – Давай мы в кусты отойдём, чтобы людей не пугать, а?
– Ну, давай, – паренёк конкретно заинтересовался починкой сломавшейся молнии. – А как это ты её так сломала, а?
– Ну, даже не знаю… – мямлила Ксюха, подводя рокера к кустикам, в которых засели пацаны. – Так получилось…
Вылезший из кустов за спиной панка Колян положил ему руку на плечо. Панк вздрогнул, обернулся, а Ксюха тем временем шмыгнула за широкие спины вышедших вперёд Пашка, Санька и Лёхи, поспешно застёгиваясь и размышляя на тему, «а что же они успели увидеть». Последним из кустов неспешно и солидно вышел Васиф, чуть впереди семенил Женёк.
– Ну, что, здравствуй, Мингажев, – насмешливо проговорил Васиф. – Далеко собрался?
Услышав, по-видимому, хорошо знакомый гортанный голос, панк дёрнулся как ошпаренный. Окинул испуганным взглядом окруживших его парней. Было отчего испугаться. Боксёр Васиф, самбист Пашок, Санёк с Женьком тоже боксом занимались, хотя и не с таким успехом как Васиф, Колян сам по себе создан страх внушать…
– Какой у тебя ошейничек симпатичный, – подёргал за шип Женёк. – Случайно не у собаки взял погонять?
– Подстава значит… – еле слышно прошептал Мингажев. Поднял метущиеся серые глаза. – Говорите сразу, что нужно.
– Слышишь, Васиф, пацанчик спрашивает, что нам нужно, – внимательно посмотрел в глаза горбоносому вожаку Санёк. – Может, скажем, что нам нужно? Кажется, он хочет договориться.
– Говоришь, договориться хочет? – сощурился Васиф. – А когда он со своими погаными рокерами в клубе понтовался… – Васиф употребил нецензурное выражение, – тогда тоже договориться хотел?
– Ну, он больше не будет так делать, правда, Мингажев? – Колян наклонился к панку. – Ну, что молчишь?
– Не буду, – прохрипел панк.
– Видишь, Васиф, он говорит, что не будет, – насмешливо улыбнулся Санёк. – Может, поверим?
– Ладно, я добрый сегодня, – Васиф презрительно сплюнул. – Заберите трубу, гребень петушиный состригите, и пускай гуляет пацанёнок.
– Слышишь, что Васиф сказал? – Пашок похлопал рокера по плечу. – Давай телефон.
– Сейчас… - Мингажев трясущейся рукой начал расстёгивать карман.
– Быстрей, Васиф торопится, – высунулся из-за Пашкова плеча Лёха.
Женёк принял мобильник из побелевших пальцев Мингажева, засунул в джинсы.
– Ну, что, теперь только осталось модельную стрижку сделать, – снисходительно улыбнулся Васиф. – Женёк, ножницы у тебя?
– Всегда со мной, – лицо Женька засияло радостно-иезуитским выражением. – Острижём нашего петушка…
– Дайте, я сам остригу парнишку, – Васиф принял большие ножницы из рук подобострастно заглядывающего ему в глаза Женька. – Нагните его.
Пашок и Колян заломили руки даже не пытающегося сопротивляться панка, нагнули его раком. Васиф хохотнул, сделал в сторону униженного парня непристойное телодвижение. Потом щёлкнул ножницами, обезобразив некогда так красиво стоявший гребешок. Сунул ножницы в руки Женька:
– Убери.
Пашок с Коляном выпустили из крепких рук остриженного Мингажева. Он поднял лицо.
«Какие у него глаза, – с интересом подумала Ксюха. – Как у изнасилованной девки из видео, которое мы с Ленкой недавно в инете смотрели».
– Ну, что, гуляй, Вася, – сделал широкий жест рукой Санёк. – Или ты хочешь с нами остаться? Что, парни, примем мальчишку в нашу компанию?
– Глядите, да он не хочет, – рассмеялась до этого молча наблюдавшая Ксюха вслед убегающему Мингажеву. А Лёха поднял с дороги кирпич и запустил по ногам панка. Тот споткнулся, но останавливаться не стал.
– Слабоват, парнишка, – сожалеюще усмехнулся Васиф. – Трубу сбываем как можно скорей, хотя он на ментов выходить не станет, но так надёжней. Колян, ты знаешь через кого, Женёк, отдай ему. Что, кореши, гуляем?
Ксюха позвонила Ленке, чтобы убедиться, не занята ли та дома с очередным хахалем, после чего компания отправилась ко Ксюхе на хату, что было делом весьма редким – Ксюха терпеть не могла у себя бухих гостей. По дороге Васиф, Пашок и Женёк сложились, купили выпивку.
– Ладно, не парьтесь, – успокоил Пашок не складывавшихся Ксюхиных одноклассников уже сидючи на Ксюхиной кухне. – Свои как-никак. – И отхлебнул пиво из пузатого бокала. – Что, Ксюх, с боевым крещением?
– Наша Ксюха была просто супер, – самодовольно усмехнулся Лёха, приобняв бывшую подружку. Кажется, всё ещё надеется, что Ксюха ответит взаимностью.
– Всегда носи красное нижнее бельё, – посоветовал Женёк.
А Васиф отодвинул Лёху, и поставил свою табуретку между ним и Ксюхой. Лёха не посмел перчить, только с завистью зыркнул на горбоносого главаря. Ксюха улыбнулась и решила, что, как ни хорош авторитетный Васиф с его накачанными плечами и статусом авторитетного мальчика, в парнях его иметь для здоровья крайне опасно.
* * *
Ксюха сидела на подоконнике в тёмной комнате и намазывала майонез на кусок чёрного хлеба. Было часов одиннадцать вечера, Ленка где-то шлялась, Ксюха была в квартире одна. К большой её радости сестра перестала водить на квартиру хахалей, сама начала к ним ходить. Но в этом были и свои минусы – частенько Ленка вообще не заглядывала домой, не приносила остатков еды из своей кафешки, и Ксюхе было нечего есть. Когда в школе взвешивали и замеряли рост, все с интересом отметили, что при росте метр шестьдесят Ксюха весит всего сорок два килограмма. Более упитанные одноклассницы с интересом спрашивали, на какой диете Ксюха сидит, а она думала, что дальше так нельзя, надо что-то менять. Готовить Ксюха не любила, так что иногда питалась у кого-нибудь из друзей-товарищей, но чаще довольствовалась тем, что оставалось в холодильнике после очередного Ленкиного прихода.
Денёк сегодня выдался не слишком весёлый. Ксюха даже хотела устроить у себя на хате пьянку с одноклассниками, да не получилось. А со взрослой компанией она уже несколько месяцев не общалась после скандального расставания с двадцатилетним Стасиком. Даже Славик, и тот, смылся на соревнования по боксу в другой город. Ксюха ухмыльнулась своему отражению в стекле, вспомнив, как недавно уговорила его попробовать курить.
– Это же вредно, – отнекивался Славик, а Ксюха только смеялась в ответ:
– Ты чо, не пацан?
Скрепя сердце, Славик согласился. Потом долго кашлял, ругался и говорил, что никогда больше не попробует этой гадости. Ксюха улыбалась, а на следующий день попросила его составить компанию – одной, мол, не в прикол. И Славик опять не смог отказаться.
«Скоро он и пить начнёт, – думала Ксюха о Славике, глядя на светящиеся окна дома напротив. – Он же меня так ценит. А то неудобно – как будто не с пацаном гуляешь, а со своей совестью».
Ксюха приметила в одном из окон напротив длинную, сгорбленную над столом фигуру. В ней Ксюха узнала одного чокнутого из своего двора. Насколько она знала, ему было лет двадцать, учился в каком-то универе и выглядел полным придурком. При росте под два метра он был худой до дикости, ходил всегда в одних и тех же потертых джинсах, подчёркивающих тощие ноги, и в растянутой чёрной футболке. Жидкие светло-русые волосы Чокнутый, как мысленно называла его Ксюха, отрастил до плеч, и всё время перебирал в руках какие-то бусы. А осенью ещё обзавёлся кошмарным чёрным плащом, развевающимся по ветру. Когда это чудо шло по двору, глядя вдаль своим потусторонним радостным взглядом, Ксюха чувствовала в себе желание сделать ему какую-нибудь гадость. Он был из тех людей, которых Ксюха не переносила – весь такой правильный, по улицам не тусовался, наверняка вёл здоровый образ жизни. И вдобавок, Чокнутый был круглым отличником и ходил в церковь. Это Ксюхе рассказал Шома, сосед Чокнутого по лестничной площадке, и друг Ксюхиного детства.
– Он того, верующий сильно, – говорил Шома, показывая частично выбитые в драках зубы. – Пошлёшь его спьяну, или даже заденешь маленько, а он ничо, даже не обижается. А зададут этого учить, ну…. Как его там, Пушкина, мы же в ПТУ за год два класса проходим, зайдёшь к нему, попросишь книжку, а он ничо, даёт. Добрый, тока сдвинутый малость, не общается ни с кем из нормальных людей, всё такие же к нему ходят. Девки-монашки в длинных юбках, парни правильные больно, тоже отличники, наверно…
А ещё Ксюха взяла у Шомы номерок Чокнутого. Так, на всякий пожарный. Вдруг скука одолеет. И глядя на сгорбленную фигуру этого отличника и тихони, то сидящего неподвижно, то что-то порывисто записывающего, Ксюха решила, что пора им заняться. Вообще, она любила доводить людей по телефону. В этом, так же как в драках и ссорах, Ксюха находила особый кайф. И энергии после такого занятия почему-то прибавляется. Чаще всего она просто звонила и отключалась, с каждым звонком наслаждаясь всё более раздражённым голосом доводимого. Но Чокнутый заслуживал чего-нибудь более интересного. На него даже баланса не жалко. Задумчиво дожевав бутерброд с майонезом и не почувствовав ни малейшего чувства сытости, Ксюха взялась за телефон. Гудки казались невозможно длинными, нестриженные грязные ногти с облупленным лаком до боли впивались в ладони.
«Ну, возьми же наконец трубку, лошара», – раздражённо думала она, глядя на фигуру Чокнутого в окне напротив. Наконец тот зашевелился, и Ксюха услышала в трубке до приторности добрый голос:
– Да? Это ты, брат.…
Чтоб поскорее перебить этот противный голос, Ксюха быстрей заговорила:
– Нет, я тебе не брат. Давай познакомимся?
Молчание было раздражающе долгим, а потом Чокнутый виновато сказал:
– Простите, я не могу.
И отключился. Ксюха с ненавистью поглядела на Чокнутого, что-то торопливо строчащего, и позвонила опять.
– Это снова я. Почему не хочешь познакомиться?
– Извините, я очень занят. Не звоните, пожалуйста.
И бросил трубку, негодяй. Тогда Ксюха позвонила и отключилась, с интересом наблюдая за движениями Чокнутого в окне напротив. Потом позвонила ещё раз, а у Чокнутого телефон выключен. Предусмотрительный!
– Ничо, я на тебе ещё отыграюсь, – ласково прошептала Ксюха. Поудобнее устроилась на подоконнике, закурила и стала смотреть на гаснущие окна дома напротив. Чокнутый, судя по всему, спать не собирался, всё строчил что-то. Долго Ксюха на него глядела. Так и заснула на подоконнике.
* * *
Славик вернулся с почётным вторым местом. Сидя у Ксюхи дома за чашкой чая и слушая её болтовню, он безмятежно улыбался, погруженный в приятные воспоминания.
– Ну, ты мачо! – восхищённо сказала Ксюха, и искушающее добавила: – Обмоем?
– Я же не пью… - слабо сопротивлялся Славик.
– Так я и не предлагаю тебе стать алкашом-хроником, просто культурно посидим – Ксюха мигом вытащила из холодильника бутылку пива. – Лови момент, обычно я пью за чужой счёт!
Ксюха разлила пиво в бокалы, Славику ещё водки подлила для интереса. Он не заметил даже.
– Смелей, смелей, – поддержала Ксюха, когда Славик с интересом пригубил спиртное. И Славик выдул весь бокал залпом.
– О, да ты прям хроник! Ещё по бокальчику?
– Да нет…
Ксюха налила ещё по бокалу, на этот раз и себе водки добавила.
– А это зачем? – Славик заметил, что она что-то подливает.
– А это для остроты ощущений. Водочка.
Славик вздохнул, но ничего не сказал.
«Вот так и прощаются с трезвенностью», – ехидно подумала Ксюха, а вслух спросила:
– Выйдем, покурим?
– Нет, я не хочу. Правда.
«Неужто от рук отбиваться начал»? – улыбнулась про себя Ксюха, вслух грозно сказала:
– Ты хочешь поссориться? Я тебя не держу. Ты даже уйти можешь, если хочешь. Только общаться я с тобой после этого не стану.
И Славик поплёлся за Ксюхой на балкон – курить. Потом поплёлся обратно – допивать пиво. Потом спьяну признался в любви. Ксюха с трудом удерживаясь от смеха, ответила согласием на Славиково предложение дружбы. Всё шло так, как было задумано. Просто, когда Славик был на соревнованиях, Ксюхе пришло в голову сделать его своим телохранителем и цепным псом. А для этого нужно было немного постараться. Так, самую малость…
Майя ДУДКО, г. Челябинск
 Майя Борисовна Дудко родилась 17 мая1939 года в Витебске (Беларусь), В 1941 году семья была эвакуирована на Урал. В 1965 году окончила филологический факультет ЧГПИ. Работала учителем и организатором внеклассной работы в челябинской школе № 15, затем преподавателем в Челябинском педагогическом училище № 1. С 1990 го да - учитель русского языка и литературы в филологических классах лицея № 11. Руководитель научно-исследовательской работы юных филологов. Ее ученики - победители множества городских, областных олимпиад по русскому языку, а также 2-й Всероссийской олимпиады по русскому языку (1997). Под ее руководством ведется изучение литературного краеведения. Учащимися написаны работы о Л. Татьяничевой, Л. Кулешовой, М. Чучелове, А. Туркине, Б. Рябухине. М. Уточкине, В. Оглоблине, И. Банникове, А. Горской.
4 Результатом поисковой и архивной работы стала книга «Обретение поэта» о молодом челябинском поэте начала XX века Михаиле Чучелове. Были введены в научный оборот новые архивные документы и материалы, касающиеся биографии и творчества поэта.
М. Б. Дудко занесена в портретную галерею передовиков педагогического труда Челябинска (1976), удостоена званий «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель РФ» (1996). Награждена знаком ЦК ВЛКСМ (1968), дипломами Всероссийского фонда мира (1999), научно-социальной программы «Шаг в будущее» (2001, 2002, 2003, 2005), почетными грамотами Министерства образования и науки Челябинской области (2009), Администрации г. Челябинска, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области за большой вклад в развитие литературного краеведения (2009).
Майя Борисовна Дудко родилась 17 мая1939 года в Витебске (Беларусь), В 1941 году семья была эвакуирована на Урал. В 1965 году окончила филологический факультет ЧГПИ. Работала учителем и организатором внеклассной работы в челябинской школе № 15, затем преподавателем в Челябинском педагогическом училище № 1. С 1990 го да - учитель русского языка и литературы в филологических классах лицея № 11. Руководитель научно-исследовательской работы юных филологов. Ее ученики - победители множества городских, областных олимпиад по русскому языку, а также 2-й Всероссийской олимпиады по русскому языку (1997). Под ее руководством ведется изучение литературного краеведения. Учащимися написаны работы о Л. Татьяничевой, Л. Кулешовой, М. Чучелове, А. Туркине, Б. Рябухине. М. Уточкине, В. Оглоблине, И. Банникове, А. Горской.
4 Результатом поисковой и архивной работы стала книга «Обретение поэта» о молодом челябинском поэте начала XX века Михаиле Чучелове. Были введены в научный оборот новые архивные документы и материалы, касающиеся биографии и творчества поэта.
М. Б. Дудко занесена в портретную галерею передовиков педагогического труда Челябинска (1976), удостоена званий «Отличник просвещения», «Заслуженный учитель РФ» (1996). Награждена знаком ЦК ВЛКСМ (1968), дипломами Всероссийского фонда мира (1999), научно-социальной программы «Шаг в будущее» (2001, 2002, 2003, 2005), почетными грамотами Министерства образования и науки Челябинской области (2009), Администрации г. Челябинска, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области за большой вклад в развитие литературного краеведения (2009).
Лауреат II Южно-Уральской литературной премии в номинации "Краеведение" - за историко-литературоведческое исследование жизни и творчества поэта Михаила Чучелова в книге «Обретение поэта»
Точка отсчёта
Глава из книги «Обретение поэта»
Стоя на краешке нового века,
Мы вспоминаем сейчас:
В старой Челябе грустила Зарека,
Та, что за речкой Миасс...
Ася Горская
Биография любого человека интересна, а биография юного поэта-самоучки, автора первого поэтического сборника, вышедшего в Челябинске после революции, интересна вдвойне.
Как из сохранившихся фрагментов воссоздают законченную композицию фрески, так из стихотворений, документов, обрывков воспоминаний мне захотелось восстановить драматически короткую, а по литературной судьбе необычно долгую жизнь удивительной личности.
«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА выдано это свидетельство из Оренбургской Духовной Консистории мещанину Михаилу Георигиеву Чучелову в том, что он родился в г. Челябинске Оренбургской епархии в 1898 году 30 октября, а крещен 1 ноября в Христорождественском Соборе. ...Родители его: запасный старший унтер-офицер из челябинских мещан — Георгий Андреев Чучелов и законная жена его Анна Серафимова, оба православного вероисповедания».
Кроме Михаила, в семье были две дочери — Клавдия и Степанида. Семья переселенческая, жила на улице Кыштымской, в Заречной части,— самом старом районе города. Зарека представляла в то время жалкое зрелище. В отличие от центральной она напоминала большую деревню, а не бойкий промышленно-торговый город. Замощена только одна улица — Екатеринбургская, освещения по ночам на -большинстве улиц не было.
В воспоминаниях писателя Юрия Либединского Челябинск остался таким: «… Внизу широко до самой реки кварталп ми серых домов деревянных лег маленький город. Мало больших двухэтажных домов, но много церквей. Одинокая труба завода льет к небу бесконечную ленту черного дыма, и далеко за городом падает пепел в сугробы. Приземистая, пыльно -серая каланча надтреснуто, мерно шлет в пасмурную тишину один за другим пять мерных ударов, и две тихих минуты спустя в ответ с колокольни летят певучие звоны, долго кружатся в воздухе и падают за городом в сырой туман деревень» 4 .
Атмосфера старой Челябы будто оживает в кадрах черно-белой киноленты в стихотворении «Милым челябински будням» безымянного современника тех лет.
Узенькие улицы, низкие дома,
Вечные туманы, будничная тьма.
Мелкие страдания, мелочишки грез,
Множество фантазий, бездна горьких слез.
Днем — однообразие, вечером — тоска,
Жажда счастья нового всем сердцам близка.
Приходите, сильные! Разбудите их!
Расскажите, бодрые, о краях иных!
Это стихотворение перекликается с мыслями о «свинцовых мерзостях жизни» в провинции того времени известного писателя Александра Гавриловича Туркина: «Провинция, провинция! Долго ли ты будешь синонимом всего нелепого и бес чувственного на земле?» — с болью восклицает он, и вместе с тем верит, что «...придет когда-нибудь молодое, богатырское духом племя, встанет оно на необъятной равнине, и зашевелится везде здоровая бодрая жизнь» 6 .
Весной река Миасс широко разливалась и в половодье затопляла Заречье, Ивановскую, Сибирскую улицы (сейчас улица Труда), представляя необыкновенное зрелище: «Вода все прибывает и прибывает, быстро плывут, сверкая на солнце, белые, голубые, розоватые льдины. Вот они заплыли на Зареченскую площадь, заполнили ее, ломают базарные лавочки. Я смотрю на эту картину, и душа наполняется каким-то особым восторгом, торжеством, как будто не реку ото льда, а меня, маму, все окружающее освободили от чего-то тяжелого...»
Впечатлительный маленький Миша Чучелов, засмотревшись, может.быть, на весеннее половодье, упал из окна и повредил грудную клетку, что пагубно отразилось на его здоровье. Рос он слабым ребенком, много времени проводил дома, очень рано пристрастился к чтению, любил рисовать. Мечтательный по натуре, в детстве и отрочестве он уже сочинял стихи.
Никто в семье не придавал значения его увлечению, и лишь сестра Клавдия, мать Юрия Согрина, поддерживала его. Юрий Васильевич вспоминал: «Мать рассказывала, что первоначально Михаил подражал Байрону и Шекспиру, упоминала, что писал он не только стихи, но и поэму "Кровавые рубли", из которой очень многое она помнила наизусть».
Некогда сонный захолустный городок со строительством железной дороги стремительно рос и стал самым большим городом в Оренбургской губернии. «В этом странном, пестром проходном городе отчетливо и ясно чувствуешь: гудит, пробуждается Сибирь... Растет и Челябинск. Здесь пока единственные ворота, через которые волнами перекатывается в Европу сибирское добро»*.
Благодаря энергии городского головы Александра Францевича Бейвеля замостили улицы и площадь, появились электричество, водопровод, телефон, автомобили — помолодел город. Челябинскую жизнь постоянно освещал в газете первый беллетрист нашего края А. Г. Туркин. Вот как он писал о станции Челябинск: «Здесь много того, что мы называем жизнью, Целые дни и целые ночи грохочут поезда, гудят свистки и несут с собой волну мятущегося и куда-то спешащего люда. Куда они едут? На этот вопрос ответить невозможно, так как через Челябинск можно проехать куда угодно»
Любимым местом Миши была городская публичная библиотека-читальня — главное книгохранилище не только города, но и всего уезда. Здесь он мог пропадать часами. Библиотека находилась в Заречье по ул. Екатеринбургской (ныне ул. Кирова). В ее фонде были сочинения классиков, русских и зарубежных, богословские и философские книги, в 1905—1907 гг. библиотека пополнилась революционной литературой.
Родители будущего поэта были малограмотны, жили по старинке, но старались дать образование детям. Учился Миша охотно, с радостью. Сначала в начальной школе, а в 1913 году поступил в Челябинское городское училище. Здесь формировались его духовные устремления, развивались способности к рисованию. Учителя сразу заметили большую начитанность юноши, его любовь к слову.
Иван Данилович Искосков — учитель-инспектор, яркий, талантливый человек, помимо точных наук, увлекался литературой, печатался в газете, выступал с хором. Конечно, такая личность не могла не оказать влияния на будущего поэта (заметку И. Искоскова о первом конкурсе поэтов в газете «Народный университет» я частично включила в книгу).
Мария Григорьевна Попова — опытная учительница, преподававшая чистописание, историю, географию, — выделяла среди всех учащихся Мишу Чучелова, который писал стихи, многое знал вне программы, имел каллиграфический почерк.
Иван Михайлович Пономарев, учитель русского языка, творчески подходивший к программе, часто задавал сочинения, чтобы каждый ученик имел возможность не только осмыслить прочитанное, но и выразить свой взгляд в письменной форме. Он отмечал начитанность юноши, духовную зрелость, незаурядность.
Александр Иванович Добросмыслов — учитель гимнастики хвалил трудолюбие, силу воли Михаила. Несмотря на слабое здоровье, тот упорно занимался физкультурой, делал зарядку, закалялся, обливался холодной водой на морозе.
Благотворное влияние на развитие творческих способностей Михаила оказал Ефим Тихонович Володин, ученик К. А. Савицкого, преподававший рисование и черчение. Знание предмета, глубокая увлеченность искусством покоряли учащихся: он пользовался большим авторитетом и любовью. В способном ученике Володин видел будущего художника. Позднее Михаил Чучелов будет посещать изостудию, организованную его учителем.
В 1914 году Михаил Чучелов экстерном «окончил полный курс учения» в 1-м Челябинском 4-классном городском высшем (после 1912 г.) училище. Скромный аттестат — свидетельство гуманитарных наклонностей будущего поэта.
Время неумолимо набирает свой бег. Нахлынувшая новая жизнь «требует интеллигентных сил для школ, для земства, для медицины, для вообще жизни, неизменно и верно идущей вперед».
Александр Францевич Бейвель — врач и большой общественный деятель — много сделал для Челябинска. Благодаря ему появилась биржа, он председатель биржевого комитета. Доходы городского бюджета возросли вдвое, и это благотворно сказалось на развитии Челябинска: создаются учебные заведения, открываются реальное училище, полная женская гимназия, торговая школа, новый приют, Народный дом, первый книжный магазин.
О деловых качествах и популярности Бейвеля говорит такой факт: это был единственный в истории Челябинска человек, трижды подряд избиравшийся городским головой. Память о нем жива: улица имени Бейвеля и две мемориальные доски, одна из них — на Кирова — «общественному деятелю, благоустроителю Челябинска».
Ежедневно выходят «Голос Приуралья» и «Приуралье». Душой редакций этих прогрессивных газет становится А. Г. Туркин.
Но еще быстрее шел духовный рост человека. И этому способствовало время. «Война, все дышало войной!» Интеллигенция читала теоретиков социализма, душу бередили солдатские заунывные песни, напоминая о войне, о царском деспотизме, о бедствиях народа. Учащиеся-реалисты «с упоением поносили и царя, и Государственную думу, и министров». Не удивительно, что многие из них потянулись к революционерам — Юрий Либединский, Сергей Силин, Михаил Голубых, Николай Карбушев и др.
«Революционеры рисовались нам лучшими людьми человечества»,— писал Либединский в книге «Воспитание души». Его друзьями были младшие брат и сестра революционеров Елькиных. Это была известная в городе большая семья романтиков (братьев и сестер в ней было десять человек), все они были людьми одаренными, глубочайшего благородства и убеждений, многие из них профессиональные революционеры. Что бы они ни делали, они делали искренне, самоотверженно, мужественно.
В начале прошлого века их дом притягивал молодых художников, музыкантов и революционеров. Юрий со своим другом Сергеем часто бывал у них.
Есть странные люди.
С мечтою в глазах
Идут по тернистой дороге,
Не чуют — истерзаны ноги,
Стремятся вперед, и неведом им страх.
Они молчаливы, скупы на слова.
Не знают бездумного смеха.
Веселье для них — лишь помеха,
И их не тревожит людская молва...
Дорогой своей они стойко идут,
И служит опорой им собственный суд
В стремленье к намеченной цели.
И только по смерти свершится их труд.
И долгие годы еще протекут,
Чтоб люди понять их сумели.
Это стихотворение С. Силина «навеки вошло в мою душу», — вспоминал Юрий Либединский, 16-летний реалист.
Юноши отличались не только чувствительностью к несправедливостям жизни, но и начитанностью, любовью к поэзии. «Поэты эти все, как нарочно, начинались на одну букву: Бальмонт, Белый, Брюсов, Блок»... Либединский особенно выделял Блока — «любимого спутника всей жизни« — и его «Стихи о России»... 12
Широкий, наполненный свежим революционным ветром мир Юрия Либединского так не похож на обособленный, замкнутый мир Михаила Чучелова!
Юрий СЕДОВ, г. Челябинск |
|
* * * о чёрной ревности? Скрипеть Свет сплетню шёпотом зубрит… Ах, Муза, где искать слова Как восковая, в этом свете ПОЛОВА ТЩЕТЫ Своей души не проведёшь, Я этой жизни вопреки А в старом зеркале пустом РОДНОЕ землёй, и свет дежурных фонарей Привет, край света, дом почти в лесу – … Накатит поезд, с насыпи сметёт, А я останусь здесь… Пойми меня, СТИХИ ПОЭТА Потухших взоров детская печаль, Что имя им твоё! Стара обложка, Стихи, слова, мечты, надежды, речи, * * * как некогда сказал поэт*. В Тригорском парке тишина. У Маленца**, поди, наш гость Звезда упала невпопад, * Г.Р. Державин ВРЕМЯ ЛУНЫ вот храм, воздвигнутый вчера… сквозь облака, сквозь ветви ив, А ведь когда-то… Вот и мы, нам век продлит и сохранит * * * не знать! не помнить! не искать!.. Ах, молодость, я твой туман Чем снять, осилить приворот? |
ЦИКАДА в плену теней идём по кромке лета, Рук осторожных слабое касанье, * * * Приятель говорит: – Налей Я провожу его домой. Мой сирый свет в окне высок, * * * Заученных не слышу слов, из тишины моей зимы Пахнёт тайгой, степной весной, * * * И вот – завидует, и, глядя Гляжу вдогон ему и знаю, воспоминанья, и вмерзаю * * * Радости этой хватило Розы увяли. Под снегом Прячет улыбку хозяйка: ВЕТЕРАНЫ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЙ когда песню начнёт Соловей, чтобы после высоких словес нас проводят в грядущее всех… не хватает Бродяги, того, * * * покачивая, ловит запах дыма, напомнил о зиме, о новогодних Там сердцу открывались все дороги, Её никто не ждёт, никто не видит, |
Ирина АРГУТИНА, г.Челябинск |
|
* * * Надеяться на бога их не учи, Тем более – кричать не дано тунцам: И мы хлебнули в меру – не до конца – МОЛЬБА О БЕСПОРОДНОМ ДЕРЕВЕ Ты мой саженец. Беспородное дерево, я ещё тут, Но когда эти люди приходят за тем, дай мне силы на вдох, Беспородное дерево, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ Но подошел один, и протянул с улыбкой Держать – и удержать, как знамя, как гранату, ТЕОРЕМА ФЕРМА Он мальчишкой попал на двойной интеграл Эх, алмазное небо в начале времен! положительных целых решений полнo: И на ужин – рагу, и в порядке носки, Счетовод или слесарь, умелец и проч. – Он шатался по дому, иссохший, как жердь, * * * МОТЫЛЬКИ Но оттуда так и чудится вздох нам: Нет – их сотня, невесомых, роится. Не присесть и не прилечь – далеко им 2. То-то юность хороша – вне эпох. И ярится безобразная стужа: Поседели вы и стали бесплотны, МОДЕЛЬЕР Человек, скроивший смерть из чужого льна, Модельер, а вы примерьте-ка пиджачок: где намеренно объехали по кривой модельер. Он соглашается на( )отрез, тот, на спичечных ногах подходя к двери, А у вас нормальный вес, на двоих кровать. Воспевайте посвист пули и тетивы ПРОТИВОСТОЯНИЕ 1. Аленький цветочек Знаешь, воитель праведный, ты неточен Я говорю. Мне трудно: опять охота 2. …С другого края, стало быть, напротив, – И оба не стреляют по мишеням. Безумна жажда шага рокового ПЕРЕЧИТЫВАЯ БЕЛЛУ АХАТОВНУ P.S. 30.11.2010
|
ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ Хуже, чем нездоровье, Вспомни: она укрыла Помнишь – во сне, в бреду ли – Красят рябину кисти, * * * Мы бродим у озера. Ветром закатным пропахана нашествию дач и у-дачников. Справа – пунцовое Отец был спокоен и радостен в этом, настоянном Ты стал очень взрослым. Мои перемены осенние Кто помнит об этом всегда, даже здесь? – только я да ты. Девчонка бежала, споткнулась, рассыпала ягоды, * * * Свет хрустел в хрустале до последней рулады звонка – это вдруг разразился рояль благодатной грозой, Беззащитное сердце. Ах, продлись эта музыка жаром любви на щеках – Так замри же, блаженный, – когда ещё так вознесёт КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ Мою мать привезли из роддома – уже со мной – Что за прихоть! Это чёртова конура И встаёт на том же месте – в другой стране, 2. Баба Оля подпевала Лемешеву на кухне, Баба Оля в ответ: «Подумай!» – гремит кастрюлей. Очень хочется, чтобы ворона летела. Малышка медлит, прикрывает рукой рисунок – 3. Шили шёлк и вельвет, За окном – сизый дом Старомодный диван Чёрти-что подросло, На стекле кружева, Влево, вправо, ещё немного вперёд – Капли падают на гранит. Как там жизнь? Не быстро ли? 5. …Но когда из-под ног уходила почва, 6. Оказалось, что жизнь – это очень короткое замыкание Первая мысль о смерти, в четыре пронзившая током, Но в детстве всё было правдой. Была красавица- мама Отец был сильным и смелым тоже не понарошку: Мы гуляли среди тополей, подметавших небо. в ней правдой была победа, литьё чугуна и стали, Не сказать, что течение тока было бесперебойно гладким, …Утро. Стою у зеркала. Глаза тяжелеют веками, Выгорело. Развеялось. Открылись просторы? Бездны ли? 7. …до прерывания процесса, |
Светлана ЧУРАЕВА, г. Уфа (Республика Башкортостан) Светлана Рустэмовна Чураева родилась в 1970 г. в Новосибирском Академгородке.
Поэт, прозаик, драматург, литературный переводчик. Печаталась в журналах «Октябрь» (повесть «Поо\едний апостол», №6, 2003, рассказ «Чудеса несвятой Магдалины», №12, 2012), «Дружба народов» (повесть «Ниже неба», № 10,2007), «Вельские просторы» (г. Уфа) и др. Отдельные издания: роман «Если бы судьбой была я...» (в соавторстве с В. Богдановым, Уфа, 2001), повесть «Ниже неба» (Уфа, 2006), книги стихов «Прежде прежнего» (Уфа, 2009), «Золотое колесо» (Уфа, 2010) и др. Также издано несколько книг переводов в поэзии и прозы. Отдельные повести, рассказы и стихотворения публиковались в коллективных сборниках и литературных периодических изданиях.
Член Союза писателей России и Республики Башкортостан. Работает заместителем главного редактора журнала «Вельские просторы» (г. Уфа). ) Лауреат ряда федеральных, республиканских и региональных литературных премий. Участник I и II Форума молодых писателей России (Москва, Липки), всероссийских семинаров по драматургии и всесоюзного семинара по переводу.
Светлана Рустэмовна Чураева родилась в 1970 г. в Новосибирском Академгородке.
Поэт, прозаик, драматург, литературный переводчик. Печаталась в журналах «Октябрь» (повесть «Поо\едний апостол», №6, 2003, рассказ «Чудеса несвятой Магдалины», №12, 2012), «Дружба народов» (повесть «Ниже неба», № 10,2007), «Вельские просторы» (г. Уфа) и др. Отдельные издания: роман «Если бы судьбой была я...» (в соавторстве с В. Богдановым, Уфа, 2001), повесть «Ниже неба» (Уфа, 2006), книги стихов «Прежде прежнего» (Уфа, 2009), «Золотое колесо» (Уфа, 2010) и др. Также издано несколько книг переводов в поэзии и прозы. Отдельные повести, рассказы и стихотворения публиковались в коллективных сборниках и литературных периодических изданиях.
Член Союза писателей России и Республики Башкортостан. Работает заместителем главного редактора журнала «Вельские просторы» (г. Уфа). ) Лауреат ряда федеральных, республиканских и региональных литературных премий. Участник I и II Форума молодых писателей России (Москва, Липки), всероссийских семинаров по драматургии и всесоюзного семинара по переводу.
Лауреат II Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» - за искусный сплав эксперимента и традиции в рассказе «Чудеса несвятой Магдалины»
Чудеса несвятой Магдалины
Рассказ
– Ты большая! – внушали матери Магдалины, когда та была маленькой девочкой. – И должна понимать, что хорошо, а что плохо. И что такое «нельзя».
– Яблоки – яд! – кричал папа.
– Это не прихоть, – орала мама. – Это – вопрос жизни и смерти!
– Ясно?
– Ясно?!
– Что было в прошлый раз, помнишь?
– Помнишь?!
И мать Магдалины – тогда ещё девочка – обмирала вся, как опоссум, и представляла, что уже умерла.
От «прошлого раза» остался сладкий вкус за границами нёба. Там чесалось и хотелось сглотнуть.
А у Сашка не кричали – смеялись, болтали, и на девочку всем было плевать.
Яблоки светились перед ней на тарелке, и Сашок предложил уверенно:
– Ешь.
Он не шутил и говорил голосом добрым – по-настоящему. И как взрослый человек понимал, что хорошо, а что плохо. И что значит «нельзя».
– Можно, ешь. Они мытые.
– У меня аллергия.
– На яблоки не может быть аллергии. Тем более на зелёные. На.
Девочка взяла холодное яблоко, уточнила:
– Я не умру?
И съела.
И с тех пор не могла больше есть обычную пищу. Ела только яблоки – тайно. Обрывала горькие городские ранетки, клянчила у подруг, подбирала падалицу с фруктовых ларьков…
Она стала бесстрашной и хитрой и знала, что родителям её не поймать.
Правда, сначала тошнило, рвало жёваной мякотью с хлопьями кожуры, а вслед выдирало слюнями – от сладкого запаха непереваренных яблок.
Она ложилась щекой на холодный край унитаза и пыталась представить, как это – умереть?
Лежать, как бабушка, в тесном гробу под землёй? Далеко над тобой растёт трава, дышат цветы и деревья, ходят люди, беседуют, слушают птиц… Над ними – воздух, много воздуха. Над воздухом – небо. И солнце кончается как раз там, где земля. Та земля, которая лежит над тобой. Под ней не чувствуешь ни холода, ни тяжести, ни вины. И не слышишь, как тихо. Лежишь там со своими ногами, руками, пальцами и лицом, а мир живёт уже без тебя.
А ведь врач обещал, что всё будет нормально. Когда девочка спросила: «Я не умру?» – Сашок смеялся, смеялись все его гости. Один из них сказал, что он врач и точно знает: яблоки не смертельны.
– Максимум – будешь маяться животом.
Животом она маялась, очень. После первого яблока был понос – даже с кровью. Кровь потом вылилась ещё чуть-чуть, сама по себе. Девочка пыталась её отстирать – и мылом, и порошком, кровь смывалась, но на трусах всё равно остались пятна, их увидела мама и – вот первое чудо! – не стала орать.
– Всё нормально, – сказала она. – Так будет каждый месяц.
И соврала. Не было больше ни поноса, ни крови.
Насчёт яблок мама тоже врала. Или просто не знала – она же не врач. Конечно, девочка подошла к процессу научно, – после нескольких приступов рвоты начала приучать себя к яблокам, постепенно. И, чтобы никто ничего не заметил, понемногу ела обычную пищу. Живот болеть перестал, и больше не было рвоты.
А потом начались мелкие чудеса. Утром по двору бегал кот и оскорблённо вопил. Близнецы из второго подъезда сказали, что бомж, который живёт в подвале, выстриг ему полосками хвост: полоска меха, полоска кожи, полоска меха – и снова голая кожа…
Будущая мать Магдалины ответила, что в подвале нет никакого бомжа. Папа однажды заводил её туда за руку, показывал на огромные – от стены до стены, завёрнутые в фольгу и рваный ватин, – грязные трубы и говорил:
– Видишь? Как тут можно жить?
Близнецы спорили, пришлось идти с ними в подвал. Трубы произвели впечатление. Близнецы притихли.
– Клёво, – шептали они. – Тут клёво! Тут кино можно снимать. Про космос или про подземные города.
– Только воняет.
– В кино вони не видно!
Дети шли по подвалу, там что-то шуршало, тихо гудело. Было здорово, пока им не встретился бомж.
Он висел на узкой трубе сбоку, чёрный. Дети не стали рассматривать – их мгновенно вынесло прочь.
Потом все обсуждали повесившегося бомжа, приехала милиция, «скорая», а поздно вечером над городом завис НЛО.
Темное небо высветлилось огромным бледным кругом; в середине этого круга, который всё рос и рос, мигала звезда. Люди задирали головы, близнецы побежали домой за фотиком, но их загнали. Будущая мать Магдалины понимала: ей тоже пора, ей попадёт, но стояла вместе со всеми и смотрела вверх, пока световой круг – на полнеба – не растаял во тьме вместе с мигающей звёздочкой.
Ей попало. Попало страшно, и она не сразу поняла, что за дело. Похоже, родители разузнали про яблоки.
– Рассказывай! – орали они.
– Как всё было? Всё рассказывай!
– Быстро!
– Ну!
Девочка заплакала.
– Я…
– Что?! Громче!
– Съела… Потом…
– Что потом?! Да говори! Хватит мямлить!
– Яблоко…
– Что ты мелешь? Какое яблоко?!
– Кислое.
– Ты издеваешься над нами?! Ты что, издеваешься?!
Девочка честно хотела рассказать всё по порядку: как первое яблоко ей дали запить, потому что кисло. Она, глотнув, сильно обожглась и плюнула. Но её никто не ругал, а все снова смеялись, дали горькой ледяной газировки, чтобы не жгло так во рту. Она пила ещё, потом сразу уснула, потому что было поздно. Но Сашок разбудил её и довёл до подъезда…
Девочка хотела рассказать всё очень подробно, как и где воровала яблоки, но мама начала её бить. Била по лицу, с размаха, ладонью. Орала и била. Девочка упала и поняла, что родители были всё-таки правы, а все остальные – нет. Родители поняли сразу то, о чём она догадалась только что: она не слушалась, и теперь у неё рак.
Когда девочка упала, рак резко двинулся в животе и пополз! Он полез в бок, так что бок оттопырился, он ходил в ней – живой, в пустоте! И, уклоняясь от удара, пытался прорвать девочке бок, выйти наружу. Девочка тоже поползла, схватила папу за ногу, ловила за руки маму…
– Я больше не буду, – хотела крикнуть она. – Я больше не буду. – Но губы дрожали, слёзы и сопли наполнили рот, и она только пускала пузыри – и носом, и ртом, тряслась, и никак не получалось слово: «Спасите!».
Да, она хуже всех, она – дрянь, она не слушалась, – всё правда! Но неужели ей дадут умереть?
– Я убью тебя! – взвизгнул папа.
Ужасно – он тоже плакал, и трудно было разобрать, говорит он: «убью» или «люблю». Похоже на «люблю», но любить-то не за что, и по голосу скорее «убью». Но ведь и убивать своего больного ребёнка из-за яблок он, наверное, не будет.
– Йаубювас! – изо всех сил, как заклинание, прокричала девочка распухшими неудобными губами. – Йатожеубювас! Йаубювас!
– Ах, она ещё грозится! – Мама с рычанием трясла её, красную, слюнявую, мерзкую, вылупившую безумные глаза в слипшихся мокрых ресницах. – Нет, ты слышишь, она ещё грозится убить! И убьёт – чтобы её хахали смогли обчистить квартиру! Тварь бесстыжая! Мразь!
– Змеёныша вырастили! Старались! Недосыпали, кормили – и вот!.. – Мама зарыдала, и теперь плакали все трое.
Это невыносимо. Родители столько старались, столько вложили в неё денег и сил, и вот она обманула их, она умирает, и все труды их пропали. Им придётся рожать новую девочку, а сейчас всё так дорого, и они уже не такие молодые, чтобы заниматься с ней, и у них так много работы.
– Йаубювас… – булькала девочка: пожалуйста, скорее в больницу! Может быть, её ещё можно спасти.
– Это я убью тебя, своими руками! – Мама душила её, а у самой текли слёзы, и девочка готова была умереть немедленно, лишь бы родители закончили плакать.
В больницу её отвезли только утром. Всю ночь она дрожала, зажав подушкой живот, раскачивалась, баюкая себя, и беззвучно шептала пересохшим ртом: «Я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас…»
* * *
Утром плакал уже только папа. Он бессильно поскуливал, кривя лицо, сморкался, пил воду. Затихал вроде, но горе распирало его, и он снова заводил тихо: «Ой-ой-ой…»
Будущая мама Магдалины молча обняла его. Теперь, когда она знала, что у неё рак, ей казалось странным, что она не заметила раньше, каким чудн ы м стал живот.
Рассекреченный рак вовсю гулял внутри, бодал узкой башкой кожу, и девочка знала: в какой-то момент острая клешня вспорет её и придётся истечь кровью.
Когда хоронили бабушку, соседка спросила о чём-то на ухо тётю Фаю, и та прошептала:
– Рак.
– Очень мучилась?
– Ещё бы. Последнюю ночь криком кричала, бедная.
Пока можно было терпеть. Да и смерть уже не казалась страшной – девочка устала бояться. Главное – выдержать ту самую последнюю ночь, а там всё кончится.
Девочка понимала: папе очень жалко её. Совсем недавно рак убил его маму, а теперь добрался до дочери, а она ещё обижалась на то, что ей так строго запрещали есть яблоки.
А ведь бабушке он сам давал яблоки: счищал кожицу, резал на кусочки и клал прямо в рот. Наверное, тогда не знал ещё, что яблоки – яд.
Кроме папы, девочку никто не жалел. Мама швырнула ей одежду, выволокла, подгоняя тычками, на улицу, хотя будущая мать Магдалины почти бежала и так.
* * *
В больнице было здорово. Как в кино. Красивая медсестра кричала на бабку, по виду – ведьму. Та в ответ стучала палкой о стену, а потом грохнулась на пол. Растрёпанная – тоже красивая – женщина с длинными чёрными волосами катила носилки на колёсах и громко выла: «А-а-а-а-а…», выпучив глаза. В носилках кто-то лежал, укрытый до подбородка грязной простынёй, с него крупными кляксами на линолеум капала кровь. Простыня топорщилась на груди лежащего, не иначе как там был воткнут нож.
У будущей мамы Магдалины аж дух захватило, она таращилась на загипсованных, перевязанных, окровавленных, хрипящих… На каталки, на капельницы, на рослых мужчин и загадочных женщин в белой форме. Она даже забыла, что у неё рак.
Её повели по длинному коридору вдоль кровавых клякс, кое-где уже смазанных. Кровавая дорожка шла до космических дверей лифта; внутри лифт был похож на отсек орбитальной станции, в котором кого-то убили, – здесь кровь натекла целой лужей.
А потом всё опять стало очень плохо.
Злющий врач с волосатым горлом и волосатыми руками велел ей залезть на высокое странное кресло. Девочка вскарабкалась по приступочке и робко села на холодный клеёнчатый край. Сидеть было неудобно из-за глубокой полукруглой выемки.
– Ложись! Ложись! – крикнул злющий врач с другого конца кабинета; он мыл руки и натягивал резиновые перчатки.
А как ложиться? На спину или на живот? Наверное, смотреть ей будут заболевший живот, тогда ложиться нужно на спину. Но как? Девочка примерилась, пристроила голову в полукруглую выемку, вытянула ноги по спинке кресла и вцепилась в металлические поручни. Вроде бы получилось удобно, только голова чуть провисала.
– Идиотка! – зашипела мать. – Полная идиотка!
Она грубо перевернула девочку, стараясь при этом дёрнуть за волосы или щипнуть. Руки у неё тряслись от ненависти. Подошёл злющий врач.
– А трусы кто снимать будет? Пушкин?! – рявкнул он.
Девочка заплакала. Она вцепилась в трусы, которые стягивала с неё мама, но та была сильнее, и девочка осталась перед врачом-мужчиной снизу совсем голой. Более того – ноги ей растянули на те самые железные поручни, за которые она держалась вначале. Девочка извивалась, врач кричал: «Да держите её!» – у матери растрепались волосы, а глаза стали как варёные яйца. Вот тут и надо было умереть, сразу. Но как?
Будущая мама Магдалины, рыдая, тянула подол платья, пыталась прикрыться, а злющий врач, ворча: «Чёрт вас всех побери! Ещё детей мне будут приводить!» – вдруг засунул ей руку глубоко между ног.
Девочка заорала от страшной боли, но тут же затолкала в рот запястье и принялась грызть его, чтобы больше не орать так позорно.
– Да что же это такое! Прекрати кусать руки! Я тебя выгоню сейчас! – кричал злющий врач.
Потом время остановилось, а потом доктор спокойно сказал:
– Месяцев шесть, может, чуть больше.
Значит, сегодня – ещё не последняя ночь! Шесть месяцев! А может, и больше! Это же полгода – минимум полгода жизни, за это время могут изобрести лекарство от рака, и её спасут.
Добрые, хорошие врачи – они и сейчас старались как могли: дали сорочку с рваным воротом на груди, поставили капельницу, сделали укол, дали таблетки. Раньше девочка очень боялась уколов, а про капельницы только слышала во дворе рассказы – один страшнее другого. Но сейчас с готовностью подставляла руку под иглу и улыбалась всем взрослым, окружавшим её.
– Она у вас что – дегенератка? – спросил волосатый врач.
– Нет, просто дура, – ответила мать.
Девочку завели в холодную комнату, целиком покрытую кафелем, – и пол был кафельный, и стены, и вроде бы потолок. Дали бритвенный станок – как у папы, только грязнее, бутыль с надписью «Мыло хозяйственное». И оставили одну.
Девочка очень замёрзла. А живот болел всё сильнее. Вскоре за ней пришли и стали орать:
– Ты что сидишь? Что сидишь, как больная?!
А разве она – не больная?
Ей велели лечь на холодную кушетку, согнув ноги в коленях, налили между ног ледяное вонючее мыло и стали скрести бритвой. Мыло жглось, бритва резала, но девочка терпела и боль, и стыд. И смотрела в закрашенное почти доверху окно, как садится солнце.
Последнее, что девочке сделали взрослые, – вставили в попу резиновый шланг, влили в неё из старой грелки чуть тёплую воду и велели:
– Пропоносишь – помоешься, – кивнув на душ, торчащий в стене.
А потом, несмотря на обещания врача, пришла последняя ночь.
Разум боролся, пытаясь уверить: спасут. Ведь здесь – больница! Здесь не положено умирать. Но под метанием разума тяжёлым пластом лежало знание – конец.
Девочка почуяла смерть за несколько мгновений до боли. Смерть схватила её – ещё просто схватила, запуская когти всё глубже и глубже, пока каждая клетка крови не пропиталась небытием.
И лишь тогда смерть стиснула когти – чуть-чуть.
Стиснула и сразу разжала. И можно притвориться, что не было боли.
Не было боли – лишь миг, предвестник будущей схватки.
Смерть не спешила, и девочка затаилась в её горсти, не смея дышать. Если не двигаться, не смотреть, не моргать, кажется, что всё хорошо, что смерти нет. Но и затаившись, девочка знала: будет больно, надо наслаждаться – тихо, очень тихо наслаждаться временным отсутствием м у ки.
Они ждали – смерть и ребёнок, садилось солнце, спустилась тьма.
В темноте хорошо прятаться. Девочка даже уснула – не заметив этого, не закрывая высохших глаз.
И тут смерть дёрнула её с удвоенной силой, выкручивая, вырывая из мира. И мир, ставший чужим, помогал смерти, выдавливал девочку из себя, выдавливал нещадно, грубо, как отраву, как горечь.
– Мама!
И снова спряталась боль – где-то в самой глубине тьмы, то ли внутри девочки, то ли снаружи. Весь мир давно уже стал темнотой. Не той уютной, привычной, в которой можно скрыться от страха, а жёсткой, неумолимой, опасной.
– Мама!
Кто же знал, что будет так страшно. Что человек может быть так одинок, так мал, – был целой вселенной, и вдруг ужался до крохотной точки…
И тут же стал огромен – как солнце, красное, громадное солнце, насмерть зажатое тьмой. Застывший на столетия взрыв отчаянья, ужаса, боли.
– Мама!!!
Нет уже губ, чтобы крикнуть, – только море расплавленной лавы и нечеловеческий вой. Вой смерча, унёсшего остатки истерзанной жизни.
«Космическое одиночество», – сказал однажды папа кому-то; странная фраза, ведь в космосе столько всего: и звёзд, и комет, и планет… Но, выходит, папа знал, о чём говорил. Ведь когда звездолёт висит в бесконечном пространстве и ты в нём один – из живых, и на сотни миллионов лет – ни единой души, это и есть одиночество. Или ты остался последним на чужой необычной планете – всех убил неизвестный вирус. Он, наверное, засел и в тебе, но уже всё равно, – ты идёшь по омерзительно розовой почве, идёшь из последних сил, а силы всё никак не иссякнут полностью, и жизнь внутри всё никак не кончится, а вокруг – никого, и никого нет в целом мире: планета пуста. Или ты – тот самый вирус и есть, и организм ополчён на тебя и тужится выдавить…
Космическое одиночество – человек в рождении и в смерти, как в открытом космосе, одинок. Девочка не могла формулировать это – она летела в безвоздушном пространстве, одна.
А потом увидела Бога: зажёгся яркий свет, и ласковый голос спросил:
– Чего орёшь? Перебудишь всё отделение. Чего орёшь в темноте?
И девочка поняла, что орёт, действительно, долго, так, что горло саднит.
– Простите, – с надеждой и радостью прошептала она.
Над ней склонилось лицо: седая борода – редкие толстые бесцветные волосины торчат в разные стороны; серые усы, не знавшие бритвы, печальные глазки между морщин под белой шапкой.
– Вот ведь, мать твою! – божий подбородок ощетинился всеми шестью волосинами. – Чего зажалась-то?
Мягкие руки вертели девочку, задрали подол сорочки, мяли живот. И девочка счастливо заплакала, уверовав истово, что спасенье пришло.
– Поздно хайлать-то. Сопли утри и давай садись над тазом. Да не так, враскоряку, ноги пошире ставь. Держись за меня – и давай.
– Что?
– Какай! Пора.
Ну конечно! Ей ведь ставили клизму – давным-давно. А после клизмы полагается какать.
– Можно горшок? Неудобно.
– Вот ведь, мать твою! – увещевал ласковый голос. – Хариться удобно было, а сейчас – неудобно! Себе на лоб смотреть не удобно. Давай скорее, шалава!
С приходом надежды ушёл страх, и девочка, тужась, просипела обиженно:
– Я не…
– А? Чего бормочешь?
– Я не это слово, что вы сказали.
Рак, почуяв сопротивление, впился клешнями в позвоночник.
– А-а-а-а-а!
– Тише ты, блудня! Тише!
– Я не… А-а-а-а-а!
– А кто же ты ещё! Принцесса в белой фате?
Точно! Принцесса. От радости, что её поняли, девочка поднатужилась старательно, и вонючая струя гулко ударила в таз.
– Получилось!
– Да, мать твою за ноги!
Конечно, я не совсем принцесса, думала девочка. Я – воровка, и я не слушалась маму. Если бы я знала, не тронула б эти яблоки! Если б я знала, что будет так больно, так страшно, я всегда-всегда бы слушалась маму! Но, если человек всё равно уже умирает, разве ж его можно ругать? Разве ж можно так ругаться, если речь идёт о человеческой жизни?
– Я больше не буду, – хотела она объяснить, но стены, потолок, пол двинулись навстречу друг другу, выжимая весь воздух.
Надо открыть окно! Окно открыто, а воздух в него не входит, – и снаружи нет воздуха, там чернота. Космос.
– Какай, какай, не останавливайся, какай…
Перекрутило и стены, и окна, и двери, – мир не хочет больше терпеть её, выдавливает упорно, настойчиво, неотвратимо. Значит, надежда была напрасна, – а как же руки, что держат так крепко? Как же эти руки – неужели у смерти хватка сильней?
– Какай, какай…
О чём она? О чём торопливым шёпотом просит эта сестра – в застиранном белом халате, в фуфайке под ним и шалью, туго намотанной сверху? Бородатая и усатая от старости, толстая коротышка, – именно так и должен выглядеть Бог, являясь на Землю. Именно так, ведь главный божественный признак – бесконечное милосердие.
– Какай, девочка, умница моя, постарайся. Давай-давай-давай-давай…
И тут случилось главное чудо. Высрался ребёнок! Настоящий. Свалился в таз, расплёскивая дерьмо.
– Подыши чуток и ещё поднатужься, – сказала сестра.
Девочка, не слушая, повиновалась, из неё полилась кровь, вывалилось скользким мешком что-то вроде кишок, но она уже точно знала – всё кончилось хорошо.
Сестра всмотрелась в таз и вдруг, выругавшись, поковыляла из комнаты.
Вернулась с врачом – тем самым, волосатым и злющим. Он, сев на корточки, тоже всмотрелся в таз и тоже начал ругаться.
– Что же вы творите, бабы, суки, мерзавки! – говорил он. – Что же вы за проклятые бабы! Что же вы за сучье племя такое! Да сколько же можно! Ни родить, ни убить толком не могут. Какая же тварь косорукая закачивала раствор?
Пока он ругался, хмурая сестра отвела девочку помыться, выдала едко пахнущую тряпку в бурых и жёлтых разводах:
– Вот, затычка тебе. Изгваздаешь, бросай вот сюда, здесь возьмёшь новую. Ясно?
В ответ на непонимающий взгляд вздохнула, сложила тряпку в длинную колбасу и показала, как надо зажать её между ног. Концы тряпочной колбасы выдавались далеко вперёд и назад, смешно задирая сорочку.
– А как ходить с ней?
– Ногами. Как пингвин. Зажимайся крепче. Вон койка тебе, иди спи.
Спать хотелось, очень. Но ведь там – ребёнок! Девочка поковыляла за сестрой.
– Ну что, Васильевна, калия хлорид? – усталым голосом спросил злющий врач.
– Вроде кювезу в родилке починили… – непонятно отозвалась сестра.
Врач насупился, помолчал, потом сказал:
– Тогда помой его, что ли…
– Это девка.
– Один хрен. Я пойду позвоню. Если возьмут в кювез…
– Чего им не взять-то.
– Да он, наверное, помер.
А мама будущей Магдалины пока сидела на корточках, отклячив жёсткий тряпочный хвост из-под драной больничной сорочки, и восхищённо рассматривала малыша.
Был он лысый, гадкий, очень маленький – с худую курицу, блестящий и чёрный, смазанный чем-то белым, похожим на воск. Только ножки и жопка – почти нормальные, жёлто-красные. Он лежал, зажмурясь, и лениво царапал стенку таза – там, где откололась эмаль. А на пальцах у него были настоящие длинные ноготки!
Всё врали про то, откуда получаются дети.
Врали и в школе, и дома, и во дворе. Никаких тут нет ни тычков, ни тычинок, ни глупостей, просто однажды тебе даётся награда – пока непонятно, за что. У многих женщин так получается: каждый день ходишь в туалет, как обычно, а однажды – ребёнком. Но есть условие – сначала надо пройти через смерть. И тут девочке начало казаться, что она не так уж орала, что она почти что терпела – и именно за это получила подарок.
Вот оно что! Детей дают тому, кто старается быть хорошим, раскаивается в ошибках и терпит. Поэтому так уважают матерей, говорят, что «мама» – это слово святое. Если женщина смогла вытерпеть и не очень испугаться – ей дают малыша. А девочка, если честно, вела себя не очень прилично, поэтому ребёнок страшненький, черный и крошечный – на всё её дрянное терпение.
Если бы она не пикнула, был бы красивенький, белый и в кружевах. Но она же не знала! Если б ей сказали, что это надо для ребёнка, то, конечно, она постаралась бы – вела бы себя тише воды, ниже травы... В ней шевельнулся кусочек обиды на маму за то, что не предупредила: ведь мама уж точно знала... Но тут же поняла: если предупредить, каждый будет терпеть, в этом и смысл – в испытании. И успокоилась.
– Умер? – спросила сонная лохматая тётка в махровом халате, заглядывая из коридора.
Девочка прислушалась. Пригляделась. Малыш лежал тихо-тихо. Тётка с брезгливостью и любопытством смотрела в грязный таз.
– Всё в порядке, сдох, – подтвердила она.
Малыш не шевелился, молчал.
И вдруг скребнули ноготки, еле слышно.
– Живой, – прошептала мать будущей Магдалины.
– Всё у нас через задницу, – зевнула тётка, – ничего не умеют. Не смотри на него – привыкнешь.
Привыкнешь! Разве к такому можно привыкнуть? Она – мама. Это – настоящий малыш.
– Да что ж ты сидишь здесь, блудня! Иди уже спать. – Медсестра ухватилась за таз. Девочка потянула его к себе. Старуха зорко глянула на неё, повела бородой, сказала ласково: – Я только помою.
– Я сама.
– Ты же пока не умеешь. Тебе спать надо, иди, я всё сделаю.
Девочка неуверенно разжала пальцы.
Она побрела, придерживая руками тряпочный хвост, всё сильнее чувствуя усталость, к «своей» кровати в углу коридора.
Много-много дверей, за ними все спят, и в другом корпусе спят – не светятся окна, и город весь спит, и где-то дома – далеко – спят папа с мамой, только она не спит, а глаза-то закрылись. Тихо, потрескивают длинные коридорные лампы. Да еле слышны вдалеке голоса врача, медсестры, шум воды и лязганье таза.
Девочка провалилась, засыпая, в сетку железной кровати, не замечая ни застиранных кровавых пятен, ни дыр на белье. И уже за границей сна вдруг отчётливо вспомнила: именно этот таз с большими написанными краской буквами «ГО» именно эта сестра пронесла мимо неё перед тем, как девочке сделали клизму. И плеснула из него в унитаз!
Но ведь в больницах не убивают детей, их лечат. А главное – она жива и у неё теперь есть свой малыш.
* * *
– Как бы не так! – сказала мама. – Как бы не так!
Она сидела на кровати напротив и уверяла, что никакого ребёнка нет и не будет. Но ребёнок был – он лежал ночью в тазу и шевелил пальцами, точно.
И вот мама говорит, что никакого младенца нет, а если дочь будет настаивать на обратном, то и дочери у неё нет.
– Как это? – девочка осмотрела себя в изумлении. – Как это: меня нет?
– Ты есть. Но, если будешь кобениться, ты мне не дочь.
Получалось: если девочка не откажется от своего ребёнка, её мама откажется от своего ребёнка. Непонятная формула.
– Тем более тебя никто и не спросит. Не твоего ума дело. Вылечишься, мы заберём тебя из больницы, и все забудут об этой истории. – Мамин голос неожиданно потеплел.
– Как это? – тупо переспросила девочка.
– В кого же ты такая идиотка?! Кудахчешь, как курица.
– Но это мой ребёнок, – сказала девочка упрямо – так, как дети говорят: моя машинка, моя кукла. – Мой.
– Ты, я смотрю, оборзела вконец. Много думаешь о себе.
Это правда, девочка много о себе думала. И думала не без гордости: она – мама! Вот здорово. Она ковыляла со взрослыми по утрам на уколы, зажимая между ног полуметровый рулон из тряпки в пятнах прокипячённой чужой крови. В очереди перед процедурной слушала взрослые разговоры и смех. Там постоянно материли мужчин и обещали по возвращении домой «оборвать всё к такой-то матери» любовникам и мужьям.
– Им – баловство, а нам полжизни с соплями возиться.
– Да какое там – всю жизнь!
– Сволочи!
– Сволочи.
Любовников называли красивым словом, которое девочка никак не могла запомнить: что-то похожее на «сизари», но на букву «ё». Слова на эту букву преобладали в речи женщин. А мужей они называли скучнее и проще: «мой». Зато в этом названии звучало мрачное удовлетворение собственниц: «такой-рассякой», но – «мой». Друг к другу все обращались, употребляя грубое обозначение женского полового органа с эпитетом «лысая» или, если ленились, – «эй!».
Девочка ничего не понимала в разговорах соседок, но узнала много интересных слов – и могла бы теперь всех во дворе сразить новыми знаниями. Поначалу она часто представляла, как вернётся во двор и как все обалдеют от того, что у неё есть настоящий ребёнок. Как она развеет все дворовые мифы о деторождении и о взаимоотношениях полов. Впрочем, если о деторождении она всё узнала на собственном опыте, то насчёт тайн общения между полами у неё ещё остались вопросы.
К примеру, звучное словечко «оргазм». Его произнесла однажды молодая женщина в очках, читающая книги даже в очереди на уколы.
– Чего-чего? – противным голосом переспросила огромная тётка, вылитый злой великан из сказки. – Чего-чего? – Таким голосом говорят близнецы из второго подъезда, когда собираются вредничать. – Ух ты, какие мы вумные – вы поглядите! Ух, чё мы знаем!
– Какая вумная! – весело поддакнула тётка поменьше.
Другая – всё ещё сонная, которая смотрела ночью на девочкиного младенца, зевнула.
– Мы же книжки читаем! – продолжала «злой великан». – Мы же там вон чё вычитали! Типа у женщин это бывает, да?
– Да, – твёрдо сказала очкастая.
Очередь дружно заржала.
– Может, ты себе чё отрастишь тогда? – смеясь, спросила женщина-великан.
– Или уже отрастила? – взвизгнула её подруга – та, что поменьше.
Очередь засмеялась сильнее.
– Ты чё, медичка? – крикнула большая своим великанским голосом.
– На букву «у»! – восторженно заверещала подруга.
Очередь притихла, прикидывая, потом, сообразив, снова развеселилась, смеясь и разноголосо покрикивая.
Очкастая покраснела, захлопнула книгу и ушла – гордо размахивая тряпичным хвостом.
Очередь обиделась.
– Убить её мало, – сказал кто-то зло.
– Ну.
– Вумная!
– Ну.
– Брешет ведь?
– Ну!
Очередь, сникнув, решила:
– Брешет.
Только сонная тётка в махровом халате щурилась молча, зевала, и вид у неё был такой, как будто она что-то удачно украла.
В больнице было интересно. Девочка спала в коридоре, неподалёку от лестницы, и ей было слышно ночью, как под лестницей сопит кто-то страшный и как в подвале бегают крысы. Сестра-хозяйка бросила им большого кота, крысы повизжали и смолкли. Утром сестра вынесла на совке кошачью голову.
Было интересно, но очень хотелось есть. Женщинам приносили еду из дома – в стеклянных банках. Они несли эти ароматные банки мимо девочки – долго-долго, медленно перебирая ногами. Они шуршали у себя в палатах газетами, в которые были завёрнуты банки, – чтобы ничего не остыло. Хлебали, стуча ложками по стеклу, болтали, потом часами мыли банки в раковине туалета.
Девочка питалась в столовой: быстро съедала тарелку перловки, кусок хлеба, выпивала компот. И тут понимала: как же хочется есть! Ей ничего не приносили из дома. Мама подходила под окно, кричала:
– Ну что?
Девочка кричала в ответ:
– Всё хорошо!
Мама спрашивала:
– Перестала дурить?
Девочка отвечала:
– Не-ет.
И всё – мама уходила домой.
Тогда девочка шла мыть голову в туалет. Она старательно мазала мылом волосы, полоскала их в раковине, заворачивала в пелёнку – наподобие тюрбана – и ходила так. Тюрбан немного оттягивал голову назад, и получалась гордая осанка, как у принцессы. Девочка ходила по коридору – из одного конца в другой – и старалась не нюхать, как пахнет из приоткрытых палат.
Ещё однажды женщина-великан отдала ей переводную татуировку из жвачки, купленной в киоске в соседнем корпусе. Девочка помыла в очередной раз голову, перевела на плечо татуировку, села с ногами на подоконник, спустила с плеча сорочку и красовалась так, пока мимо не повезли каталку с младенцами.
Спелёнатые младенцы смешно мяукали на разные голоса, кожилились, как гусеницы, пытаясь приподнять связанные ножки. Нянечка ловко раздала их в протянутые руки набежавших из палат женщин и поставила каталку к стене.
– А мне? – спросила девочка.
Но нянечка, не ответив, ушла.
Не ответила и женщина-врач, смотревшая на кресле девочке между ног. Никто не хотел разговаривать с девочкой, никто не говорил ей, где же её ребёнок. Стало уже казаться, что мама права и никакого младенца нет. Мимо с рассвета до ночи возили пищащие свёртки; с ночи до рассвета под лестницей пищали крысы и, как обычно, кто-то сопел, – ничего не менялось изо дня в день. Пока однажды рядом с её кроватью не остановилась женщина-великан. Она схватила младенца с каталки и сказала страшным голосом:
– Ам-ам-ам! Вот кого я сейчас съем! Вот кого я, сладкого, съем!
Посмотрела на девочку:
– А тебе что, не приносят пока?
– Нет.
– Сцеживаешься?
– Нет.
Сонная женщина в красном махровом халате, взяв своего ребёнка, сказала лениво:
– Брось её, она с искусственных родов.
– А, – кивнула женщина-великан. – Вот сволочь.
– Её мать привела.
– Вот сволочь. И чё?
– Живой вышел.
– Да ну? Так бывает, что ли?
– Ну да.
Тётки пошли дальше по коридору, разговаривая, а девочка поняла одно: её младенец жив. Она подошла к сестринскому посту и спросила:
– А как мне сцеживаться?
– Тебе соседки не показали?
– Я одна лежу, в коридоре.
Сестра встала, сунула руку девочке за ворот сорочки и больно ухватила за грудь. Вот ведь как удобно порвана эта рубашка – специально для груди. Девочка вспомнила: у всех сорочки были разорваны так.
– Сначала разомни, поняла?
И начала очень больно давить пальцами сосок, нажимая и отпуская. Девочка вскрикнула, но вспомнила, что здесь надо терпеть, и замолчала. Сестра дёргала сосок, выкручивала, и вдруг оттуда брызнула тонкая струйка.
– Вот так, – сказала сестра. – Сцеживай в раковину, в туалет. – И снова уткнулась в свою тетрадь.
Теперь у девочки появилось занятие и надежда. Она часами упорно мурыжила грудь, плакала от боли, замолкала, вспоминая – надо терпеть.
Её терпение каким-то чудом связано с судьбою младенца, так что – чем больнее, тем лучше. И не надо ждать награды немедленно – это она почуяла тоже.
И не удивилась, когда однажды мимо её кровати прошёл знакомый ей злющий врач. Она просто встала и пошла спокойно за ним.
– Опять кота сожрали, – пожаловалась врачу сестра-хозяйка.
– Я вам собаку принёс, – ответил тот. – Хорошего пса, терьера. Он уже в подвале шурует, не заходите. А под лестницей у вас снова бардак?
– Да не углядишь за ними, – плюнула сестра. – Собачья свадьба, честное слово. Я их уже и шваброй, и кипятком, и выписать без больничного грозила – не помогает. Из травмы на костылях и то приходят. Скоро с катетерами будут скакать, кобели проклятые. Отправьте вы эту суку домой!
– Другая придёт. А у этой ребёнок с нефропатологией, без почки родился, куда я её отправлю.
Злой врач подошёл к лестнице, под ней кто-то затаился, стараясь не дышать.
– Агобобова! – крикнул врач, как заклинание, и постучал ногой по перилам.
Тишина.
– Агобобова! Я знаю, что вы там, выходите!
Никто не вышел.
– Ну и чёрт с вами.
Вышла, поправляя волосы, женщина в красном махровом халате и отправилась в отделение.
– Агобобова, если вы сами инфекции не боитесь, то ребёнка пожалейте!
Женщина не ответила. Врач заглянул под лестницу, всмотрелся.
– Да, тут и терьер не поможет, – сказал он в темноту.
Был поздний вечер, в коридорах никто не толпился, и на лестницах было пусто. Только на одной площадке плакал старик, завёрнутый в грязную простыню. Он держал трубку телефонного аппарата, пытался говорить в неё, сообщал, что у него лишь одна двухкопеечная монета, тут же срывался на рыдания, сердился на себя и от этого ещё сильнее рыдал.
– Что за цирк? – гаркнул злой врач. – Почему вы голый и босиком?
Оказалось, что старика привезли на «скорой», прооперировали и бросили в «интенсивке» на матрас, – казённое бельё кончилось, постели у старика с собой не было, а его одежда, пока оперировали, пропала. Старик дождался, пока прокапает система, отсоединил её, взял у соседа по палате сменную простыню, занял две копейки и приплёлся звонить близким. Злющий врач бегал, свирепо ругался, кричал; старик дрожал и плакал, привалившись к ступеньке; девочка терпеливо ждала, сидела на корточках, спрятавшись в темноте.
Так они путешествовали по больнице, пока врач не скрылся за дверью. Между ним и девочкой остался один пустой коридор.
Девочка шла неспешно, в груди у неё пел мужской голос – красивый и сильный, как океан, но пел он сдержанно – ночь. Голос был полон любви, м у ки и нежности – от него хотелось счастливо плакать и что-то дрожало, как струны, внутри. Девочка уже почти разбирала слова и начала подпевать беззвучно – одним лишь дыханием. И вдруг поняла, что сейчас будет, – чудо.
Она остановилась у двери, за которой злой врач на кого-то орал, на него орали в ответ: врач басовито – «бу-бу-бу», а ему – «уи-уи», как свинья. Что-то грохнуло, и дверь отскочила в сторону. В коридор шагнул парень, совсем молодой, красный от бешенства.
– Не имеете права! – крикнул он. – Я вам ещё покажу! Я к главврачу пойду!
– В задницу! – Врач попёр на мальчишку грудью, большой, широкий, на худого и хлипкого. – В задницу себе зонтик засунь! И раскрой его! Понял?! А потом приходи. А потом приводи! Вот таких! – За руку парня держалась зарёванная девушка, крошечная, как собачонка, она тряслась и скулила: «Паша-паша-паша…»
– Что – «Паша»?! – Парень толкнул её так, что девушка чуть не упала, просеменив ногами по полу. – Думать надо было, коза! Девки все сами знают, что делать, чтоб этого не было! А ты…
– Ты сам козёл, – сказал врач спокойно. – У неё же детей потом не будет. У нас же скоблят по живому, на новокаине, ты, паскудник, сам думай башкой.
Парень дёрнулся и потащил свою девушку, которая уже боялась скулить, а только пригибалась на каждом шагу, как от пощёчины.
Злющий врач погрозил им вслед кулаком и хлопнул дверью.
Девочка постояла в темноте, послушала. Красивый голос в ней продолжал напевать, тихо-тихо. Она вдруг подумала, что у врача, хоть он и злой, мог быть такой же голос, если б он пел.
Девочка осторожно открыла дверь кабинета, заглянула внутрь. Врач плакал зло: вытирал слёзы ладонью, ворчал, грозился, всхлипывал, и слёзы у него текли и текли.
– Идиоты, – шептал он. – Идиоты, кретины! Как же можно так жить, дурачки, бедолаги?..
Девочка обычно боялась, когда взрослые плачут, но сейчас не испугалась и не удивилась, вошла уверенно, погладила врача по мокрой руке.
– А, – сказал он, – это ты? Вот странно, что ты сегодня пришла, – мы как раз твою девку из кювеза достали. Чудо-ребёнок, – представляешь, уже дышит сама. Завтра отдавать её думали.
– Спасибо.
– А что спасибо-то? В дом малютки. Тоже мне радость. – Злющий врач не плакал, а говорил, как обычно, сердито.
В дверь постучали.
– Да. Кто там? Входите.
Вошёл давешний молодой человек, Паша, только без девушки.
– Чего тебе? – врач покосился из-под светлой чёлки; у него волосы были красиво подстрижены, бабушка называла такую причёску «под горшок». – Деньги не возьму.
– Можно спросить?
– Спрашивай.
Парень помялся.
– Ну? Храбрый такой был, грозился, а теперь стоишь, как в штаны наложил. Чего тебе? – Врач встал.
– А правда, – спросил Паша, – правда, что если лампочку в рот засунешь, то обратно не вытащишь?
– Правда.
– Спасибо. – Паша, извинившись, ушёл.
Мать будущей Магдалины попросила:
– Можно девочку посмотреть? Пожалуйста.
Врач велел:
– Сиди здесь, ничего не трогай.
Над столом с телефоном висел календарь, на нём красивая женщина с распущенными волосами стояла на коленях, смотрела вверх, приложив руку к груди. На ней была такая же рваная сорочка, как у всех женщин в отделении. «Кающаяся Мария Магдалина, Тициан», – прочитала девочка. «Магдалина!» – пропел голос внутри.
Доктор принёс младенца. В чепчике! Маленький чепчик – на кулак и то еле налезет, а в нём – живое лицо, жёлтое, в невесомом пуху, светится мягко и пахнет, как солнечный заяц. Подбородка нет – просто щёки стиснуты завязками чепчика. Глаза закрыты, ресницы длиннющие: девочка. Спит и губами во сне шевелит, как будто сосёт.
«Как же хорошо, как правильно, что столько дней я терпела эту дурацкую боль! – осторожно подумала мама будущей Магдалины. – И теперь всё отлично с младенцем – это самый красивый ребёнок на свете».
– Магдалина, – сказала она вслух. – Я назову её – Магдалина.
– Слишком претенциозно, – сказал врач.
– Да, – важно кивнула мать Магдалины. – Я тоже так думаю.
Она спустила рваный ворот сорочки с плеча, обнажив то, что стало с недавнего времени грудью, и попыталась засунуть сосок девочке в рот. Та повела вялыми губами – и всё. Тогда маленькая мать Магдалины – и ведь никто её не учил! – надавила резко пальцами на сосок, тихо смеясь, брызнула молоком младенцу в лицо. Потом – ещё раз, уже прицельнее; девочка поморщилась, почмокала, почмокала, пробуя, и неожиданно сильно схватила сосок. И всю душу из матери вынула – с корнями, протащив по всем жилочкам, от макушки до пяток, по протокам новорождённой груди. Больно и так радостно, что даже страшно. Мама Магдалины вскрикнула, засмеялась от неожиданной боли и разревелась от радости.
– Посмотрите, какая чудесная девочка, – сказала она врачу, шмыгая носом. – Когда смотришь на неё, обязательно улыбаешься.
Злой врач покосился на сосущего младенца, не улыбнувшись. Нахмурился:
– Вот что, иди-ка к себе.
Рано-рано утром малышей привезли на кормление. Ещё издали заслышав грохот каталки и нестройное злое мяуканье голодных младенцев, мама Магдалины помчалась мыть в туалете грудь. Уселась поудобнее, подложив под спину подушку, завязала волосы вафельным полотенцем – у других, она видела, были косынки, сложила руки, в которых дрожало уже предвкушение сладкой тяжести детского тельца.
Женщины набежали к каталке, теснились, кудахтали, хлопотали и наконец разошлись все, умильно воркуя. Нянечка поставила пустую каталку к стене.
– А мне? – спросила мать Магдалины. – Мне уже тоже можно. Точно-точно, спросите там у врачей.
Нянечка, уточнив фамилию девочки, ушла в детское отделение.
Её не было долго – не было, не было, и наконец она появилась. Положила девочке на колени тугой шевелящийся свёрток и отправилась по палатам собирать других малышей.
Маленькая Магдалина поела, не открывая глаз, и уснула. Её мама попыталась нащупать пятками тапки, не нашла, встала так, босиком. И пошла осторожно, не отрывая глаз от спящего личика, всеми руками чувствуя, какой же лёгкий младенец.
В пустом коридоре висел ещё сумрак. Как музыкальный треугольник, позвякивали шприцы, которые выкладывала на стерилизатор сестра в процедурном. Тихо было в подвале. Под лестницей шептались, но, пока девочка с младенцем проходила мимо, примолкли.
Перед большой дверью мама Магдалины замешкалась. Нехотя подняла глаза от ребёнка, прочитала: «Приёмный покой». Приёмный бывает сын, а покой – от слова «покойник»? Наверное, им не сюда. Но тут дверь приоткрылась от сквозняка, и девочка, придержав её плечом, вошла внутрь. Там неожиданно оказалось много народу, в воздухе реял сдержанный шум. Девочка узнала парня Пашу – он терпеливо сидел в углу, смешно округлив щёки. У него лампочка во рту – догадалась мать Магдалины. И тотчас в другую дверь ввели ещё одного парня – с точно такой же лампочкой! Девочка не поверила глазам, но по приёмному покою покатился хохот, от человека к человеку, вместе со словами: «Таксист… это таксист, который того придурка привёз…» Паша тоже начал улыбаться криво, сквозь лампочку, а девочка, на которую никто из-за хохота не смотрел, вышла на улицу.
Собака – терьер? – виляя хвостом, понюхала её босые ноги. Пробежала недолго рядом, но девочка мысленно велела ей отстать – боялась споткнуться и уронить младенца. Асфальт приятно холодил ступни, и вдруг одна нога мягко осела в клумбу, и тут девочка поняла, куда ей идти.
Она дошла до частного домика, вросшего в землю. Раньше здесь ей всегда были рады.
Муж бабушки на стук открыл дверь и сказал:
– О.
Хотя, наверное, он – бывший муж бабушки? Интересно, как обращаться к вдовцам?
– Дедушка… – рискнула мать Магдалины.
– Исключено! – Вдовец вытянул палец. – Уважительно меня зовут Борода, потому что у меня есть борода. А неуважительно – Синий, потому что я синячу, как бог. У меня в крови течёт чистая синька. – Дед задумался и вывел: – Аристократ.
– А какой бог? – спросила мать Магдалины.
– Чего это?
– Вы сказали, что вы – как бог. Какой именно бог?
– Я знаю? Может быть, Бахус? Его так назвали от слова «бухать» – это по-гречески; по-нашему выходит «синячить».
Мать Магдалины кивнула. Младенец спал.
– А друг мой Леший зовёт меня «Синяя Борода» – с тех пор как умерла твоя бабушка.
– Борода, – попросила мать Магдалины, – можно мы у тебя поживём? – Кивнула на дочь: – Она тихая.
– Зато я громкий. Знаешь, что твоя бабушка была моей четвёртой женой?
– Не запугивай прачек, Синёк. – На крыльцо вышел ещё один дед, страшнее прежнего. – Севастополь не одобряет. Ты у Маруси был пятым супругом, так что счёт приблизительно равный.
– Верно, Леший. Ничья. – Дед кивнул и заплакал.
– Не жалей его, – второй дед погрозил матери Магдалины. – Это всё синька.
– Точно, – кивнул вдовец. – Веришь, одну только сливу кинул, а она мне та-а-к подрассказала…
– Одну! – фыркнул Леший. – Опять рюкзак посуды налил.
– Да, – перестал плакать Борода, – у меня ведь тут форменный хлев. Разве младенцу можно в хлеву?
– Можно, – ответил Леший. – Севастополь одобряет. Швартуйтесь, прачули.
Сергей ПОЛЯКОВ, г. Верхний Уфалей (Челябинская область)
 Поляков Сергей Алексеевич родился в 1951 году в г. Нязепетровске Челябинской области. Работал слесарем, учителем русского языка, директором школы, диспетчером завода, бойцом пожарной охраны, журналистом... Окончил Магнитогорский пединститут, Высшие литературные курсы при Литературном институте.
Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», коллективных сборниках, областныхи центральныхгазетах.
Автор пяти книг прозы - рассказов и повестей.
Член Союза писателей России.
Поляков Сергей Алексеевич родился в 1951 году в г. Нязепетровске Челябинской области. Работал слесарем, учителем русского языка, директором школы, диспетчером завода, бойцом пожарной охраны, журналистом... Окончил Магнитогорский пединститут, Высшие литературные курсы при Литературном институте.
Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», коллективных сборниках, областныхи центральныхгазетах.
Автор пяти книг прозы - рассказов и повестей.
Член Союза писателей России.
Лауреат II Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» - За одухотворение глубинной жизни Урала в сборнике прозаических произведений «По последнему льду»
НА ДЕВЯТИ ХОЛМАХ
1. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»
– Бабка Анисья, – спрашивал я, – а почему у чёрненькой курочки белые яички получаются?
– На вот, – отрывалась от пряжи старуха. – А какие же они должны быть?
– У беленькой – беленькие, у чёрненькой – чёрненькие, – убеждённо говорил я. – Или вот молоко у коровы… Трава-то – зелёная! И сено коричневое.
– Ну и что? – бабка настраивалась было «примереть» часок после обеда на кровати, но капельку развлечься тоже не мешало.
– А молоко почему-то белое! Ещё зачем-то говорят «на белом свете». А не все на нём…
Наступившее молчание, в которое погрузилась бабка, я расчел за возможность выяснить глобальные вопросы бытия и продолжил широким фронтом:
– На что курям петух, если не несёт яйца? Хайлает только спозаранку, да проходу по двору не даёт… Почему трудяга-пчела ужалит и гибнет, а вредина-оса живёт?
– На спрос! – взрывается старуха и со страховидным лицом пытается достать меня веретеном. – А кто спросит, тому – в лоб!
На некоторое время я притихаю, обиженно смотря в окно на осеннюю распутицу, а затем, привязав к нитке бумажку и раздразнив кота, бегаю с ним «по комнатям».
– Серёдочка сыта – краешки играют, – благодушно отзывается на нашу возню бабка Анисья. – Не ломота вам в спину ёндать туда-сюда.
Но наигравшиеся краешки снова просили другого – душа также ждала насыщения. И я, усевшись смирно возле бабки, просил ее рассказать, как жили раньше.
– Жили – не тужили, – старуха спать хотела «до страсти», она и бормотала-то сквозь дремоту. – Голодными спать не ложились. С утра до ночи пластались до упаду – вот как робили. Хозяин, когда строились, на кулаках спал.
– Как это?
– Да так: сядет за стол, кулак на кулак поставит, а на них голову уронит – и подремлет немного. А как голова свалится с кулаков – всё, опять пошёл робить. На заимку едем – по нужде сходить не останавливались. Соскочишь с телеги, за кустик забежишь – и догоняй. А дядя мой вовсе – пешком всю дорогу. Чтобы лошадь не измаять – на ней ведь еще копны возить. Да ружьё с собой возьмет – рядом с дорогой шарашится.
– Бабк, – снова спрашиваю я, – а почему ты так ходишь – согнувшись? Никогда не выпрямляешься.
– Бог наказал. В девках еще была – на заводских работах надсадилась. Подрядилась болванки в апреле месяце таскать – с верхнего завода на нижний. Мама не раз скажет: одевайся пушше – спину застудишь. Нет, отмахнёшься: ничё не будет. Туда с грузом распаришься, обратно налегке – застынешь. Хоть того больше замерзнешь, а виду друг дружке не подаешь. В гавани барки к сплаву готовили, парни подбирались отчаянные, баские. А мы – чё ещё тогда – глупые, бестолковые. Улыбнётся какой-нибудь – так бы до вечера на пригорке и стояла. И дождь не в дождь – ничего не замечаешь. И про работу забудешь, не то ли что чё. На верхний завод вернёшься – приказчик чуть ли не с кнутом: «Где была? Вот скажу матери – взбуды тебе даст!» День отробишь, к вечеру домой еле добредёшь, а матушка с вичкой встречает. Подол задерёт, да как начнёт взбулындывать! По голой-то заднице. Не то ли что чё, а вот чё.
Бабка Анисья помолчала немного, а потом продолжила:
– Один раз дождик, да со снегом, прихватил. Домой с работы пришла – вроде, сгоряча ничего не заметила. А к утру – жар, тело ломит. Две недели провалялась, еле отходили. Встала – без спины, разогнуться не могу. Так вот и доживаю – с палочкой.
Бабка Анисья даже лежа в кровати не могла разогнуться – горбатого только могила исправит. Ее спина, фигура были веским аргументом отца в пользу того, как плохо жили раньше, до революции.
Вслед за бабкой, прикорнув на лавочке, задремывал и я, а проснувшись, слышал, как старуха молится. Молитвенные труды обе – мать и дочь ее, бабка Маня, – считали первостепенными и отправляли их на совесть. Общаться на заре жизни с пожилым человеком – это я понял уже много позже – значит на всю жизнь обрести большой заряд чистейшего, освобожденного от шлаков опыта душевного строительства. И не потому ли мы так хорошо помним детство, что больше жили душой?
– Отсталые – вот и молятся, – объясняла мне мама по дороге домой, когда забирала, идя с работы, чадо у бабушек, – тёмные.
– Если снова все молиться начнут, то что же будет-то? – говорил отец. – Снова старая жизнь вернется. Ни машин, ни радио, ни паровозов. Снова царь, эксплуатация.
– И вдобавок все тетеньки будут ходить горбатыми, как бабка Анисья, – добавлял я, – мужики спать на кулаках, а уж в туалет сходить и вовсе не мечтай – не до того будет.
Слово же «эксплуатация» было и вовсе не моего ума, и я его опускал.
Заметив усиление влияния богомольных старушек, родители спешили сменить систему педагогики и вызывали другую бабушку – по отцу. Пелагея Степановна домовничала у нас дома. Она между делом рассказывала уйму стихов, которые переняла, служа в няньках еще у гимназических учительниц.
Те пробудили у бабушки интерес к фольклору, и Пелагея Степановна была кладезем присказулек, поговорок и словечек, которые застревали у меня в памяти.
Шаловливые ручонки, нет покоя мне от вас:
То и жди, что натворите вы каких-нибудь проказ.
Там бумажку оторвали, спички серные зажгли… – слышалось целый день от бабушки, отправляющей обычные дела.
Каждое слово в исполнении Пелагеи Степановны шло как паровоз, за которым тарахтели «вагон и маленькая тележка» присказок. Бабка Поля не очень цензуровала поговорки, в них ни убавить, ни прибавить нельзя было без изъяну, а самое большее – это уменьшить звук или пробормотать их невнятно.
Бабка Аксинья, помянутая Пелагеей Степановной, отцова тетка, любила ковыльнуть после баньки, да и так просто рюмку-другую, и потому требовала рифмы «жопа синя», иначе ее, пьянчужку, и поминать не стоило. Дед Андрей, живущий в Гамаюнах, икая, гадал, кто его вспоминает, потому что в бабушкиной редакции шло дальше: «Занял денег семь рублей, – а после тяжелого вздоха следовало: – да так и не отдал, варначина». Если человек шел на станцию, то «искать вакансию». К слову «старушка» присовокуплялось «пукнула в кадушку» и т. д. Само собой, в моей речи все слова стали просить рифмы и присказки, и я их по мере развития смело конструировал, чем немало изумлял отца-мать, вернувшихся с работы.
Когда количество купюр превышало опасную черту, родители принимали качественно новое решение – запирали меня дома одного, дабы в монастырской заточенности они сами собой выветрились, рассеялись «по комнатям», впитались в стены. Ничуть не бывало: от скуки жизни я разговаривал сам с собой, сочинял истории, распевал песни, а когда наскучивало, рисовал пальцами на запотевшем стекле. Бабушкин фольклор я распевал на мотивы опер, шедших по радио, и единственный благодарный слушатель, кот Васька, одобрял мои занятия довольным урчанием.
Высоко на стене было подвешено «радиво», чёрный «говорунчик», по которому неустанно транслировались оперы, речи и спектакли. Звук внезапно обрывался от замыкания («замолкания» – переводил я). Иной раз коротило надолго – тишина угнетала, но вдруг вновь врывалась какая-нибудь фраза диктора, начатая еще до того, как репродуктор соизволил включиться.
Происходило это иной раз в моменты критические, например когда я делал смелую экспедицию в темноту подпола, где изнемогали в ожидании дегустации банки с вареньем, и, несмотря на запрет матери, запускал столовую ложку в одну из них.
«Опять ты за свое!» – слышал я из комнаты и плохо закрывал впопыхах банку.
Снова в наступившей тишине я слышал шаги котов, бегавших по потолку, шорох воробьев за наличниками окон, скрип снега под санными полозьями. По звукам я силился восстановить события, по промелькнувшей тени – её носителя, по обрывку фразы – весь разговор. С той поры я выучился даже сочинять самою жизнь, какой она должна быть, и все плотнее закрываю глаза от того, что происходит на самом деле.
К вечеру я мог в точности отчитаться, сколько возов сена проехало по улице, сколько прошло человек, что звучало по радио. Проходившая мимо машинабыла целым событием, я вминался лицом в стекло, а потом дорисовывал наокне свой портрет. Шла другая машина: стирать изображение жаль, я прилипал в другом месте — сколько машин, столько и портретов. От скуки я изучил все узоры на стенках и потолке, дорисовывал из них в своём воображении фигуры диковинных зверей, и они свободно переселялись потом в мои сны. Я пытался зарисовать их, но взрослые так ничего и не поняли.
– Сухорукой, — смеялась даже «отсталая» баба Анисья.
Так как купюры и прочий авангард выветривались плохо, то мать убеждала отца вновь отдать меня в праведную среду своей родни, чтобы поддержать мой моральный облик.
– Худому все равно не научат, — приговаривала она.
Самим родителям воспитывать меня было некогда: отец в ремесленном училище просвещал чужих детей, матушка зарабатывала на жизнь кондуктором. Вообще, слово-микроб «деньги» звучало в семье очень часто. Оно не могло не зацепить меня, и в детском садике, куда, в конечном счете, упекли меня на исправление нравов и патриархального воспитания, я изумил педагогов чёткостью жизненных позиций. При опросе «общественного мнения», кем быть, когда вырастешь, я смело ответил:
– Тем, кому больше денег плотют.
– А зачем тебе деньги? — опомнившись после первого потрясения, спросила воспитатель.
– Чтобы заниматься чем хочу, – последовал ответ.
До сих пор «заниматься чем хочу» остаётся моей недосягаемой мечтой.
По субботам топили баню по-черному. Интересно было растоплять печь берёзовыми сладко пахнущими дровами. Меня оставляли следить за огнём и подкидывать топливо. Я мучился от того, что дым ел глаза, недоумевал, как будем дышать, но вот баня протапливалась, и мы начинали ходить мыться. Вечером стряпали «пирмени» – от слова «пир», конечно, додумывал я. Папа подстригал дядю Володю, своего брата-инвалида: тому в двенадцатилетнем возрасте в глаз попала стружка от станка – в войну он токарил,очкислетели с маленького, невзрослого носа. Отец решал дяде задачки. Тот всюю жизнь где-то учился, менял профессии и занятия – то держал пчёл, то охотничал, то рыбачил. Приходила другая родня помыться, поиграть в лото или картишки.
В воскресенье же брался реванш за потерянную для воспитания неделю. Отец давал задание перерисовать вид на открытке. У меня ничего не получалось. Тогда предлагалось перерисовать по клеточкам картинку из детского журнала, где был изображен карапуз с карандашом в руке.
– Климу Ворошилову письмо я написал, – прочёл папа под картонкой.
– Как больсой, — отозвался я.
После обеда меня отправляли с дружком кататься на лыжах. Горок там не было, мы сами делали их из навезённого со двора снега. Спуск был целой оргией. Интересно было также вытаптывать по бескрайнему простору огородов всевозможные знаки, которые должны были привлечь пролетающие самолеты. Однажды в наши Палестины действительно залетел «кукурузник», с рёвом пронесся над нашими головами, и впечатлительный мой друг заревел. За компанию заревел и я, взялся вытирать слезы другу, но только усугубил его горькую долю.
Наивность... Сопровождавшая меня в детстве, она дорога и мила мне и сейчас. Это непременное качество должно присутствовать в человеке до конца дней, иначе что за жизнь! С тем же другом Борей мы впервые отправились самостоятельно в кино с единственным двадцатником. Нам в классе выдали также единственный билет на два места. Раз бумажка была одна, то и место было одно, рассудили мы. По считалке оно досталось мне. Борис с ревом отправился жаловаться матери, а я, переживая, – но не пропадать же деньгам, – удовольствовался фильмом за двоих. Зато в утешение я несколько раз пересказал Борису содержание картины с восторгами, размахиваниями руками и выражением блаженства на лице, которые Борис с кислой миной и потребил в свою добычу.
В «передней» избе, горнице, в углу был киот с несколькими иконами – божничка. На киоте стояла лампадка с маслом и крохотным фитильком. Чудесными бывали те минуты, когда огонёк освещал картины жизни Христа и я всматривался в них под бабушкин шёпот. Иконы были намолёными, написаны давно, лики потускнели, но дело было не в изображении. Мне, научившемуся по узорам на стене создавать и оживлять полную картину, изображения эпизодов из жизни Христа приоткрывали завесу в другой мир. Бабушка, как знала, в невинном отклонении от истины толковала эти «сюжеты» и была проводником, впервые показавшим путь в этот пресветлый мир. В колеблющемся свете лампадки персонажи древней истории оживали, слова бабушкиной молитвы, отражённые от икон, шли на меня, и душа впитывала их на веки вечные. Конечно, бабушка не смогла бы растолковать сущность Троицы и других христианских догм, но представление о той жизни дала. То же, что я плохо усваивал молитвы, забывал креститься перед едой и после, то, что мной водительствовала не собственно вера, на которой все держится, а ожидание чуда увидеть Господа воочию, бабка Анисья объясняла по-своему:
– Он ведь макнутый, только, вот ни бельмей, – говорила она своим племянницам. – Крестили дома, без священника. Отец – партейный, побоялся огласки, вот мы с доченькой его и окрестили. Позвали читальщицу, макнули внучека в таз да молитвы сотворили.
– Так и окрестили на исак курносого, – отзывалась одна из племянниц. – Нет, как хотите, а уговаривайте родителей свозить парня в церкву. Что же он, родимый, так и должен нехристем рость?
Но в детстве окрестить чадо родители так и не собрались, и пришлось мне постигать Божественные истины и Священное Писание в меру собственной «макнутости».
Как-то мы с бабками – Анисьей и Маней – вернулись с поминок. Дело было зимой, на кладбище меня не брали, а только на поминки. Вернувшись, старушки устраивались одна на печи, другая на кровати, и сквозь дрему бабка Маня сказала:
– Закопали Нюру в земельку, убралась, сердешная, отмучилась. Земля ей пухом.
– А душенька прямо в рай пошла, – отозвалась бабка Анисья. – Добрая была, во сне мухи не убьет.
– Как это в землю? – вскинулся вдруг я. – И всё? А как же дальше... жить? Что исть там?
Вопросы сыпались из меня, как горох из банки, пока не уперлись в главное: – И я, что ли, умру?
– И ты. Все там будем.
Это было потрясением. Душа сопротивлялась тому, что все на земле не вечно.
– Что же делать? – я задумался, готовый зареветь.
– Молися, – бабка Анисья как лучиком посветила во тьме кромешной. – Не вольничай, не хулюгань. Тогда, может, Господь возьмет к Себе на небко.
И я начал молиться.
Страстно, истово, с жаром я повторял вслед за бабкой Анисьей слова Священного Писания, шептал их потом на сон грядущий – к большому неудовольствию и тревоге родителей. Моя душа попала в ножницы между материализмом отца-матери и горячей верой «отсталых» бабушек, а за неё, за мою душеньку, боролись всеми средствами. Отец доказывал, что только человек, это могучее существо, управляет всем, продлевает жизнь с помощью науки, пересаживает сердца, изобретает новые лекарства...
– И все равно помирает, – заключала бабушка, – А бессмертную душу забирает Господь.
Отец, «вооружённый передовой теорией», видел в молитвенных трудах бабушки бесполезное времяпрепровождение, а в теологических беседах – посягательство на устои государства, которое худо-бедно кормило, одевало, гарантировало зарплату и порядок, формировало установки привычные, хотя и абсурдные. Но абсурд не воспринимается таковым, если является коллективным. В этом случае абсурдным признается отклонение от «передового учения» – религия. Тут таилась опасность, и её надо было нейтрализовать. Отцы абсурда-учения, их исполнители-партийцы бдительно следили за тем, чтобы детей члены партии не крестили, а если таковое происходило, тут была готова епитимья – разборка на партсобрании и выговор. Метафизическое заклинание «выговор по партийной линии» требовало разъяснения.
– Ну, это когда при всех отругают, – объяснял отец.
– Штаны снимут и всыпят, – прибавлял дядя.
– Ничего ему не будет, – комментировал я прегрешение одного из родственников перед партией. Тот свозил умершую мать на отпевание в Касли – партбилет пригрозились отобрать да штаны снять.
– Сразу надо было думать, когда в партию вступал, – назидала бабушка. – Это кто ворует – партбилетом задницу прикрывает, а нашему, к примеру, зачем?
Крошка сын шел к отцу и за всяко-просто предлагал:
– Да отдай ты этот партбилет – и сразу легше будет. Всё равно ты у нас не воруешь, не руководишь, да и штанов в случае чего не напасёшься.
– Какие же взрослые – дураки, – рассуждали мы, ребятня, на свалке возле бензозаправки. – Напридумывают всяких партбилетов, собраний, политинформаций, из-за которых срывается рыбалка, и морочат голову себе и другим.
И шофёры, которые заправлялись бензином у нас на глазах, тоже, наверное, ехали не туда, куда хотели, а, связанные общей игрой взрослых, устремлялись куда пошлёт партия.
Эти шофёры на наших глазах вытворяли иной раз и вовсе непонятные вещи. В дальнем углу заправки, где сами ходили по-маленькому, они регулярно выливали на землю остатки невыезженного бензина.
– Чтобы выработать лимит, – пояснил мне дядя Петя, отцов фронтовой друг. – А то на следующий год спустят меньше.
Это настораживало и требовало действия. За столом я старался съесть пельменей как можно больше и надсажался через силу. Когда мама спросила, чего я так радею, то получила ответ:
– Чтобы выработать лимит. А то на следующий год вырасту больше, а пельменей на меня будете стряпать столько же.
Ох уж эти взрослые! Взять тех же шофёров на заправке. Пока из баков выливался на землю бензин, они объединялись в чьём-нибудь самосвале и выпивали бутылку-другую вина. Взрослые нарочно одурманивали себя, а потом попадали в аварию, лишались прав и страдали.
«Да чтобы я взялся пить, когда вырасту?! – проносилось в голове. — Налижешься да поедешь по улицам простину развешивать да канавы считать. Греха не оберёшься».
К моему горькому удивлению, то же, что и шоферы на заправке, делал мой непререкаемый авторитет дядя Петя. В чайной, выдохнув воздух, он, давясь, заглатывал полстакана спирта и зажёвывал его конфеткой.
– Так надо, – неопределённо отвечал он мне уже в кабине. – Какой же я мужик, если не выпью?
– Так а я что ли... баба ещё?
– Ты маленький, – смеялся дядя Петя, включая скорость. С тебя и спросу немного. Эх, конь вороной, белые копыта, когда вырасту большой... – и подмигивал мне: – ох, чё будет!
«А чё будет? – безутешно думал я. – Вырасту – и придётся вино халкатъ, как все. Надо ведь как-то мужиком становиться».
Родители бы и рады были изолировать меня от влияния бабушек, но куда девать чадо, если в садике вдруг объявляли карантин, у меня приключалась корь, а оставить больного ребенка одного без присмотра у родителей «не хватало совести», и болезнь сводила нас вновь с бабкой Анисьей. Странно было также, что если в детсаду я цеплял по порядку все болезни, включая и морально-нравственные, то у бабушек оздоровлялся, несмотря на то, что босиком «ёндал» по полу, облизывал иней с болтов у двери, сосал ледышки с окон, а однажды по недогляду бабки Анисьи, ушедшей на двор, встал на четвереньки (а пятереньки бывают? – зрел в голове очередной вопрос) и, сроднясь с братьями нашими меньшими, вкусил парного молочка из чугунной лакалки – к вящему удивлению кота, уважительно, впрочем, посторонившегося и брезгливо потрясшего лапкой на мое босоногое, точнее, четвероногое детство.
– Мы ить молимся за него, – объясняли бабушки моё выздоровление. – Исть с молитвой садимся, не просто так. А вы только и знаете таблетками пичкать – отравой-то.
С молитвой все было вкуснее. И парное молоко, которое наливала в кружку прямо из-под коровы бабка Маня, было слаще, потому что скотинку кормили с рук, и первое яичко, которое в марте укарауливали нераз- мороженным, и горсточка земляники, принесенная бабкой Маней с пригорка, и пенки от кулаги, ныне забытого прекрасного блюда из ржаной муки, приготовленного в русской печи в глиняной корчаге, куда, увлекшись облизыванием оной, с головой, бывало, залезал внучек, и парёнки из моркови и брюквы «с дымком», и с ним же сваренные «пирмени», с пылу- с жару поданные к столу.
Когда приходила бабки-Манина сестра (та звала её «Лизавета»), тоже «отсталая», со слов моей матушки, то грозилась унести котят, и я докладывал жарким шепотом на ухо бабушке, что «я их всех в подпол поспускал». Когда бабка Лиза пугала, что «всех цыпушек заберёт», внучек тихой сапой отбывал во двор и снова шептал бабке Мане, что он-де «всех цыплят разогнал, одна кура осталась!»
– Уж больно он у вас простой, – делала вывод бабка Лиза. – Уж проще его, вроде, никого не знаю. Как он едаким жить будет?
Так и жил. С утра пораньше, пока не рассвело, бабка Маня растопляла русскую печку и, погасив из экономии свет, «примирала» ненадолго на лавке в своих раздумьях. Помолиться она уже успела, во время молитвы отвлекать её было рискованно, а тут – самое время разрешить мучившие меня.загадки,
– Баба Маня, – приступал я к ней, – почему на одном и том же парнике один огурец хороший вырастает, а другой – горький? Один – с пупырышками, другой – гладкий?
– Потому что один ладом, с молитвой ростили, а другой – так, на исак курносого, – подумав, отвечала бабушка.
– А как это «на исак курносого»?
– Ну, на хохряк, – отвечала та, лишь бы отвязаться.
За столом я старательно облупливал яичко, сваренное в самоваре, и снова спрашивал:
– Баба Маня, а что первее было – яичко или курочка?
– Курочка, конечно, – не задумываясь отвечала та. – Из неё ведь яичко-то.
– Ага, – продолжал я, – а курочка самая первая откуда взялась – разве не из яичка?
– Из яичка, – вставала в тупик бабушка. Она, похоже, и сама впервые задумалась об этом. – Так чё же тогда...
– Вначале была курочка! – твёрдо произносит бабка Анисья с высоты своей русской печи. Она давно с усмешкой наблюдала за нашими философскими прениями. – Бог сотворил всякой твари по паре и населил ими землю.
Гром небесный! Отсталая, тёмная бабка Анисья, доковылявшая до наших дней из прошлого века, смогла в несколько секунд решить спор.
Само собой, те же проклятые вопросы современности я задаю своим родителям и экзаменую ими дружков.
Насчёт горьких огурцов мама, работавшая раньше в заводской лаборатории, кое-как отделалась химическим составом почвы, а отец, взявшись за этот вопрос, преподаёт материалистическую концепцию возникновения жизни на Земле. Теория о хаотическом развитии не приносит радости, от неё отвращается детский пытливый ум, а душа жаждет гармонии и красоты.
Во дворе вопрос о первичности появления яйца или курицы вызвал всеобщий столбняк и замешательство. Со вторым вопросом, об огурцах, мы с ребятами предприняли ряд практических мер. Я опластал огурцы вплоть до жалких зелепутков с бабушкиного парника. Ради выяснения истины устроили зверский разбой на соседских огородах и организовали дерзкий рейд по уличным парникам. Я стоял, обмирая сердцем, на стреме, когда ребята покусились на школьную теплицу, где длинные холеные огурцы блаженствовали в особых условиях. Везде были разные огурцы: и горькие, и вкусные.
Опытпоедания огромного количества огурцов привел к качественно свирепому поносу, сыну ошибок трудных, а за конечным выводом мы, дотошные дарвинисты, направили стопы к Генке Гусеву, учительскому сынку, слывшему умником и книжным червем. Мы изложили ему отправной постулат, описали наши исследования в области парников и теплиц и замерли перед ведром огурцов, захваченных с собой в качестве опытного материала.
И Генка, парадоксов друг, выдал сентенцию, до сих пор поражающую меня бездной смысла и практического ума.
– Просто вы начинали их не с той жопки исть.
Ученый муж потянулся, высвободил огурчик, пугливо замеревший в моей руке, надкусил его со стороны цветка и захрумтел, напоказ демонстрируя, как ему, Генке, вкусно. Затем он крупно посолил огурец, откусил до половины и в свой черед доел его до конца. Генка на наших глазах сожрал второй, третий и четвёртый огурцы. Мы вглядывались в глаза Генки, «простые, как три копейки», – с надеждой увидеть в них малейший признак неудовольствия, но хоть бы чуть-чуть скривился тот, отстаивая свой научный авторитет.
– Только солью пушше посыпай, – сказал в заключение док.
Умудренный житейским и научным опытом, я докладываю бабушкам о том, что родители весьма туманно представляют себе основы мироустройства.
– Ну-к, чё тебе они наговорили? – интересуется бабка Маня. Она одинаково ревнует меня к родителям и своей матери.
– Так, на хохряк, – отвечаю я. – На исак курносого.
– …Это ведь много чего касается, – с умиротворенностью в голосе продолжает между тем бабка Маня разговор о горьких огурчиках. – Того же человека возьми. Один растет в доброй семье, хороших слов наберется, родители уму-разуму учат. А у другого родители пьянствуют, матерщинничают, мимо идут – не здороваются. И парня к этому приучают. Тот и курить, и хулиганить выучивается – вольный, вопчем. Вырастет – и людям от него солоно придётся…
– Всё равно ничего не пойму, – снова выныриваю я из собственных размышлений. – Почему тогда на одной и той же ботве один огурец растет прямым, а другой загибается? Почему из белых яичек от черной курочки опять черные цыпушки вылупляются?
– Простина ты… простенькая! – неожиданно взрывается бабка Маня и бросает на стол недовязанный носок. – Сбил меня с толку, варнак, я и петли сосчитать забыла!
2. ПОГРЕБЕЦ
Моменто мори!*
С крылечка бабушкиного дома, с теплых, нагретых солнышком досок была видна Киселёва гора. На ней, в самом центре городка, было расположено кладбище. Там часто играла музыка – величественная и грустная.
– Кого нынче хоронят? – наивно спрашивал я.
– Не знаю, – отвечали в голос бабушки.
– А я знаю, – отвечал дядя Петя, если оказывался рядом.
– Кого же?
– Покойника, – отвечал тот и взглядывал на нас с обескураживающей
простотой. – Живыми никого не закапывают.
– Подь ты в ломоту, – сердилась бабушка. – Разве едак шутют?
Я был согласен с ней. Моменто мори! – редкий день с Киселевой горы не слышалась музыка.
Другое дело – был поход на кладбище в Радуницу, в Родительский день, обычно теплый, ласковый и солнечный. В компании родни, сплошь почти состоящей из женщин, мы идем по улице Ленина, упорно называемой пожилыми людьми Большой, одолеваем подъем на кладбище и садимся около первой могилы: моего деда по маминой линии – Ивана Хрисанфовича. Дед смотрел с фотографии, а может, еще откуда-то сверху – так мне казалось – добрыми, ясными глазами. У людей, пришедших из прошлого века, были такие вот добрые, спокойные лица, не то что у проживающих в советское время. Выражения лиц последних были страдальческие, волевые, неуступчивые.
Пока бабка Анисья шептала молитву, женщины раскладывали из сумок поминальную снедь – прямо на чьей-то расстеленной кофтенке и полотенце.
Где-то в ельнике перекликались потревоженные пичуги, слышались кругом негромкие голоса – весь город пришел на поминки.
– Иван Хрисанфович (баба Маня произносила отчество как «Крысаныч», и я недоумевал – дед вовсе не похож на крысу) водолазом служил во флоте. Вот однажды стояли они в порту, к командиру на корабль жена приехала. И то ли нарочно, то ли нечаянно кольцо обручальное в воду уронила. Командир спрашивает водолазов: «Кто сможет достать?» Иван Хрисанфович вперед выступил: «Могу»!» Живо его собрали, спустили под воду. Долго ли, коротко, а сигналит – подымайте! Подняли – тот подает кольцо. Офицер: так, мол, и так, проси, чего хочешь. Иван и говорит: «Ничего не надо, отпустите в отпуск, по дому соскучился». Командиру это неладно, а обещал уж – езжай, говорит, – месяц сроку.
– Вот тогда, Марея, он тебя и сосватал, – вспоминает баба Лиза.
– Да. Хоть и не хотела идти замуж, а тятя сказал – перечить не стала.
– А чего он тебе неладно был? Весёлый, добрый.
– А молоденькая ещё была. Неохота от тяти с мамой уходить.
– Уж веселый-то – точно. Иван, говорят, зачем ты ее берешь, такую маленькую? «А, – отвечает, – оно и лучше. Я её в кармане таскать буду».
– В артели работал, а там как без шутки? Сядут, бывало, есть, чашку щей нальют большую. Сперва суп выхлебают, потом команду старшого ждут – мясо таскать. Вот Иван дождется, как старшой ложку оближет да по чашке стукнуть соберется, и ввернёт что-нибудь веселое. Все со смеху и покатятся. А Иван тем временем знай себе мясо потаскивает. Не то чтобы на пакость, а всё-таки голодным не остаться.
– А и любое дело добром надо исполнять, а не на исак курносого.
– Вот только помер рано – отчего, я уж забыл.
– От кессонной болезни. Один раз под водой шибко глубоко работал. А время было военное, отдали приказ выходить. Его и подняли быстрей, чем положено. Тут же вскоре и комиссовали. Дома с год, не больше, промучился – и отдал богу душу.
– Славный мужик был, отзывчивый. Алеша Юльметьев, татарин из Чулпана, с фронту возвращался раненый: айда, Иван, увези, не дойти мне. Так Иван хоть и сам перемогался, а запряг лошадь и увез Алексея – за восемнадцать вёрст. Когда помирал, зятю Алексею наказывал: я, говорит, свою бочку вина не допил – тебе ее заканчивать. Перед праздником, бывало, укатит к ручью бочку браги, выкурит самогонки. Обратно несет бочонок, кого встретит, из ковша потчует.
Затем мы шли к другому родовому захоронению – по линии отца. И здесь читали молитву по усопшим и на скатерть накрывали снедь.
– Вот здесь он всему роду место и определил, – сказала между тем бабка Маня, закончив молитву и устраиваясь за походным столом. – Под тополями пусть именитые полеживают, а нам рядом с погребцом, большего не стоим. А может, и к лучшему. – Бабка Маня засмотрелась вдаль, где с могучей Уфой сливалась речка Нязя. Взгляд её был на редкость задумчив.
– Сказано: «И последние будут первыми». Христос самую позорную казнь претерпел ради нашего спасения, а мы будем против погребца роптать? Все в едину реку канем. Уфа вон какая большая, а без одного ручейка и она неполной будет.
– А что за погребец? – я уже насытился едой, осталось удовлетворить любопытство.
– А вот тут, – бабушка показала на место метрах в пяти от родовых могил. – Хоронили раньше всяких, кто с кола да с виселицы. Удавленников или кто застрелится. Бродяг всяких безродных – тоже сюда.
– А раньше их в Канавку валили, – вспомнила тетя Зоя, другая бабушкина сестра. – Это вот тут, недалеко. В рогожу завернут, сбросят с обрыва, а сверху дернушку отколупнут. Обрыв осыпается, и покойника заваливает.
– Я тоже это слышала от прабабки ещё, – отозвалась тетя Лиза. – Ещё спор был у властей с батюшкой. Хоть и каторжные, а хоронить надо по-людски. А то сами как собаки сделаемся. С той поры и погребец учинили. Он сначала за городьбой был, отдельно, а потом кладбище стали расширять, и погребец оказался со всеми заодно. Да уж теперь и забыли про всё…
И мы снова сели поминать.
– Сначала медом, – подучивали меня женщины, – потом яичко обязательно. А после уж что бог послал. Я вот пирог с рыбой испекла. Спасибо Пете – занёс вчера свеженькой – как хорошо!
– А сам-то чего не пришел?
– Нельзя ему. Партейный, боится, чтобы не доказали, неприятности будут.
– Ну ладно, хоть рыбки занес, дай Бог ему доброго здоровья.
Потом поминали других родственников.
– Вот тут дядя Митя лежит. Покойничек, все около церкви, бывало. А и честный был – об иголку не споткнется. Не знаю, уж какие-чьи грехи отмаливал, а за честность его церковным казначеем поставили. Как большевики пришли, деньги у него отобрали. Оттого и помер, сердешный, что расстроился.
– Вот тут – дядя Костя. Всё на гармошке играл:
Тари-нари, девки звали – не пошёл,
Тари-нари, шаровары не нашёл.
Однажды возвращался дядя Костя с гулянки. Так гармошку поднял над головой и наяривал.
Кто-то из прадедов был отмечен незаурядной силой. Подрядился он в гавани сваи забивать чугунной бабой. Работу эту выполняли обычно вчетвером. Этот предложил: заплатите за двоих – один все сделаю. Конторские согласились. Сделал мужик работу, пришел в заводскую кассу – деньги дали за одного. «Ну, сами меня найдёте деньги отдать», – сказал обиженный богатырь. Прошло время – хватились чугунной бабы – опять надо сваи забивать. А тот бабу спрятал, найти ее не могут. Вот и пришлось конторе деньги отдавать.
…От могилы – к другой, потом к почти незаметному холмику, где совсем обветшалый крестик, переходили мы в Родительский день. И про всех-то рассказывала бабка Маня. Что ни могила, то история, может быть, самая значительная из тех, что происходили с человеком, – вот и всё, что осталось. Потом я не раз слышал добавления к ним. Один, дядя Михаил, страстный охотник, сгинул после войны на чужбине. Видя свежую могилу другого дядьки, запутавшегося в жизненных делах, я припоминал соседство с погребцом и грустное определение деда. Неужели каторжный мир из загробной жизни продолжал влиять на судьбы живых? Глядя на фотографии людей, что лежали похороненными в земле, я чувствовал живые ниточки, по которым передавалось нечто такое, чего я разгадать не мог, как не мог еще сделать вывод, что жизнь не заканчивается вместе с земной смертью, дальше нас также ждет нечто, но что именно, не знает никто. Но я уже догадывался: все болезни рода дремлют в составе крови, в закоулках души, передаются по наследству и проявляются, если засыпает страж.
Любой уральский городишко, построенный в демидовские времена на костях каторжан, имел свой погребец. С высоты «самой передовой теории» они были абстрактными пролетариями, а при жизни этот сброд, согнанный со всей России, надо было организовать для каторжной работы. Демидовы правили страхом, но про Бога не забывали, оставляли светлому местечко в душе. Эти же каторжники заводили семьи, где к своим чадам питали нежность, кроткие жены умиротворяли буйные головы и горячие сердца. И удивительно: хорошее победило, народ пошел на Урале добрый, отзывчивый, умеющий держать слово. И в лютые годы именно уральцы да сибиряки говорили решающее слово. В начале Великой Отечественной войны армия пятилась до Москвы, пока не подоспели сибирские валенки да уральские полушубки, да не полезли под танки со связками гранат. И теперь: где приходится особенно туго, там появляются уральские да сибирские парни.
Сам Урал был «погребцом» России, и вдруг все перемололось, и вышло благо.
Так что же было делать: рвать нити с погребцом или, наоборот, жить каким родился, только стеречь свои помыслы, свою кровь, чтобы не ожили в ней каторжные токи, не подняли голову дурные мысли?
Соседство с погребцом отозвалось на судьбе моего дяди Владимира Николаевича: он, оказавшись на Севере по вербовке, попал в криминальную историю, угодил под следствие и застрелился.
— ...Я помню его увлечение модными тогда переносными транзисторными магнитофонами, попытки выбиться в круг экзотических приезжих людей, желание уйти от скуки жизни, уехать в другое место. И как страшно оборачивается отчуждение от родных мест! В моей памяти всплывает один эпизод. Однажды я, большой любитель ловли налимов, шарашился в темноте на «камушках» – остатках гавани, откуда сплавляли в былые времена на Нижегородскую ярмарку нязепетровское железо. Я вытаскивал одну за другой жерлики и вдруг наткнулся на рыбака с удочкой. Стояла сентябрьская темень, а он сидел с удочкой один на древнем валуне и ловил на червя рыбу. Только по голосу я узнал дядю Володю и от неожиданности задал нелепый вопрос, что он делает. Тот ответил, что ловит пескарей. Что загнало молодого мужика на ночную речку? Поймать что-либо на удочку шансов почти не было. Одиночество, вельт-шмерц, измена жены, пока он искал счастья в чужедальних краях, – что-то ведь привело его сюда? Печать некоей душевной болезни – вот что проглядывается в действиях моего дядьки. Его уезд на Север, погоня за рублём,алкоголизм, разгульная жизнь дома, пока не промотает заработанное, это «у нас на Севере», как говорил он, приезжая, – а родина не прощает предательства, пусть даже еёобозначают на карте маленькой точкой. Нельзя стесняться родного дома, пусть даже самого неказистого. В нём прошло твоёдетство, утро жизни, там ты набрался сил, чтобы одолеть сонмище душ маргиналии, подающих голос из погребца.
Так и получилось, что благодаря бабушкам смерть человеческая коснулась моего детского восприятия в щадящем варианте. Смерть была заслонена ритуалами, молитвенным бдением, поминками. Она воспринималась не трагически, а само-собойно, как упокоение и освобождение от земных тягот.
Собственно же смерть впервые остро коснулась меня, когда кот, вечный каверзень, задушил самую красивую цыпушку и под сенками не спеша, похрустывая косточками, обстоятельно расправился с ней. Меня проняла такая нежность к доверчивой птице, «самой баской», которая клевала из моих рук, что я даже реветь не мог и только молча страдал по углам. Нельзя было ничего вернуть назад! – эта необратимость мертвого в живое поразила меня на всю жизнь. Как достичь вечности? – этот вопрос и теперь живо стоит передо мной, душа не мирится с тем, что все имеет начало и конец. И сама жизнь – не есть ли простой переход с Катайской горы, где мы все появлялись в роддоме, через Тверской мост, мимо церкви на площади, по Гамаюнам на Киселеву гору, на кладбище, «на место», которое каждому уготовано свое: «под тополями» рядом с именитыми или на «погребце»?
3. ДЕРЖИСЬ ЗА ДЯДЮ!
Однажды августовским теплым утром – отец был на экзаменационной сессии в Москве, мама на работе – к нам, бабки-Маниному дому, подрулил на легковом «газоне» дядя Петя.
– Всёравно он у вас тут без дела день-деньской болтается, а со мной хоть в деревню дорогу узнает, – как бы даже уговаривал он бабушек.
То, что я нужен был «для отвода глаз», дядюшка вслух не произносил, а племянничек был «без ума от радости».
Петр Андреевич и мой отец подобрались по характеру противоположными друг другу, это их, возможно, и сближало. Если отец был не склонным к плутовству, «и об иголку не споткнётся», то дядя Петя, «самых честных правил», слыл рисковым и предприимчивым. Все переделки, в которые попадал он по вине собственного авантюризма, были необходимы ему, иначе бы он помер со скуки.
Быстро собравшись, мы сели в машину и вот уже выехали за город и весело покатили по буграм.
Встань попозже, ляг пораньше, съешь послашше! – «загружал» мою головёнку Петр Андреевич диковинными интерпретациями идейных и других песен, которые творчески переделывал в соответствии с моментом.
Я то разглядывал поля по обочинам, то выводил Петра Андреевича из крайней сосредоточенности вопросами, что тут растёт, что будет за горизонтом, почему деревья зелёные, стволы коричневые, хотя земля чёрная, то подпевал ему «никуда не денести, влюбисти и женисти», то впадал в сосредоточенность сам.
– Дядя Петя, – вдруг спрашивал я, – а вот ты утром ругал прогульщиков, а если тебя сейчас на работе самого хватятся? Скажут, тоже прогуливаешь?
– Я – согласно нормы, – отвечал находчивый администратор. – И потом, у меня вообще ненормированный рабочий день.
Будучи правоверным человеком системы, Петр Андреевич всю жизнь играл с ней в поддавки. Он, конечно же, не верил коренным постулатам партии и правительства, некоторые у него вызывали недоумение и протест, но чтобы выжить, он вынужденно и снисходительно поддерживал их.
– Видишь, – показывал он на чахлые неразвившиеся стебли кукурузы на полях, — царица полей. Сколько народу на посевную посылал, техники, а толку нету.
– А зачем ее сеять, если не растёт?
– Партия приказала. Я один раз вякнул поперёк – мне в горкоме шею намылили – до сих пор косятся. Много будешь знать – скоро состаришься.
Я с опаской взглядываю на шею водителя, на которой не видно следов мыла, и снова впериваю взгляд за горизонт, выманивая оттуда новые виды. Стариться мне не хотелось, а вот большим стать – не против.
Противоречиям натуры отцова друга несть числа. Называя коммунистов партейцами, он сам состоял в радах сей воинствующей организации, политинформации именовал брехаловкой, а проводил их в своем коллективе. Когда много лет спустя голосовали за Андропова – на площади перед кинотеатром, где раньше располагалась церковь, дядя Петя, исправно выполнивший ритуал, докладывал, что он не только «двумями руками», но еще и ногу поднял и потряс ей – во как! Петр Андреевич, будучи «партейцем», оставался родным по крови шоферской братии и однажды, отстаивая ее интересы, вдрызг разругался с секретарем горкома и жестоко пострадал.
Когда дорожное однообразие укачивает, Петр Андреевич давит мне на нос пальцем и одновременно нажимает на сигнал. Я вздрагиваю, сон слетает, а довольный шофер бодренько восклицает:
– Держись за дядю – не пропадешь!
– Но горя хапнес, – как и предписано, отвечаю я.
В центральной усадьбе совхоза мы подъезжаем к конторе, я остаюсь в машине при деле: караулить ее, дабы к ней «никто не подходил». Петр Андреевич же, поматывая ключами на цепочке, отбывает к директору.
То, что происходит в кабинете, для меня остается тайной за семью печатями, да мне и не до того. Я начинаю нервничать оттого, что мелкорослая веснушчатая ребятня окружила машину. Я точно копирую дядю Петю, когда вылезаю из-за руля, обхожу «газон» вокруг и, оттесняя деревенскую поросль от машины, пинаю колеса, стучу по капоту. Я даже сажусь на водительское место и кручу баранку. «Как больсой».
Дядя Петя с директором выходят возбужденные и раскрасневшиеся, от них обносит вином. Директор, толстомордый кабанистый мужик, дарит мне лицемерно притепленный взгляд.
– А это кто? – спрашивает он.
– Второй пилот, – с гордостью отвечает дядя Петя. – Помощник. С горшка за руль сел.
Директор долго трясёт дядину руку, благодарит за «задний мост», который от щедрот своих пожаловал Петр Андреевич. Сам же он выглядит благодетелем, этаким князем, осчастливившим дальние уделы во время уборочной страды.
– На складе подойдёшь к Иванову, отдашь записку, а на словах скажи, что я распорядился, – и перейдя на конфиденциальный тон, директор прибавляет: – А уж сколько – смотри, дело твоё.
– Согласно нормы! – с готовностью отвечает Петр Андреевич и включает двигатель.
Машина резво берёт с места, распугивая куриц, катит по деревенским улицам к складам. Меня несколько раз подбрасывает на нырках, и я спрашиваю:
– Дядя Петя, а ты не пьяный?
– Согласно нормы! – отвечает тот с прежней убеждённостью, но чуток сбавляет скорость.
На складе мы кантарим зерно в крупчаточные мешки, Пётр Андреевич упрятывает их в багажник, тщательно укрывает сверху плащом. Я не узнаю своего кумира. Весёлое балагурство напрочь испаряется у Петра Андреевича, он делается сосредоточен, замкнут и даже пуглив. Внутри него словно взвелась невидимая пружина.
– Ничего, прорвёмся! – подбадривает он больше себя и бдительно следит за дорогой. И чем ближе мы подъезжаем к городу, тем сосредоточеннее становится водительский взгляд и собраннее он сам. И лишь дождевая туча, невесть откуда настигшая нас по дороге и остановившая комбайны, неожиданно приводит Петра Андреевича в прежнее состояние благодушия. «В такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит» – считывается с его лица.
– Еще немного, еще чуть-чуть, И мы закончим опасный путь, – привычно сымпровизировал Петр Андреевич и вдруг осёкся. Впереди, метров за триста, мы видим несколько человек, один из них в форме милиционера.
Я поражён колючему взгляду шофера. Вообще несколько последующих секунд – сплошной театр физиономистики, который Петр Андреевич разыгрывает за баранкой автомобиля.
– Дядя Петя, а чего они тут делают? – явно не вовремя вылезаю я со своим любопытством. – В едакую-то погоду?
– Воров ловят, – машинально отвечает дядя. – Тех, кто во время уборочной зерно у колхозников вывозит, – и, тяжело вздохнув, непонятно прибавляет: – Вихри враждебные веют над нами...
Следующий момент надо видеть – любое описание меркнет в сравнении с действительностью. При подъезде к посту ГАИ взгляд Петра Андреевича, прикованный к лицу милиционера, который вознамерился было остановить нашу машину и осмотреть её, делается таким притеплённым и сочувствующим! Мол, нелегко тебе, братец, в дождичек хлебушек свой отрабатывать, да ничего не поделаешь: служба. Глаза Петра Андреевича так медоточивы, что полосатый жезл, как под гипнозом, прямо-таки примерзает к штанам милиционера, тот неуклюже кривит встречное подобие улыбки, которая выглядит злой гримасой. Я даже считываю слова, которые срываются с губ милиционера: – Ведь знаю же, что не пустой ты едешь, да только как тебя взять, налима этакого!
Петр Андреевич же облегченно вздыхает, подгазовывает, и прежнее дурачество вновь овладевает им.
Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду мослы, — вновь напевает он. В тенорке его без труда вычленяются нотки радостного торжества.
– Дядя Петя, – вдруг доходит до меня, – значит, и мы воруем? Зерно-то, которое в багажнике, украли?
– Ну, не совсем так, – с тяжёлым вздохом отвечает Петр Андреевич. – Задний мост был мой личный. Который год в гараже ржавел. Так зерна не выпишешь, а обменять на запчасти можно. – Но тут же его голос взмывает ввысь, как если бы на работе он отчитывал прогульщика. – Но согласно нормы! – И вновь впадая в игривый тон, дядя Петя подмигивает мне: – Держись за дядю – не пропадешь... – Он задумывается, тяжело вздыхает и заканчивает фразу: – - но намучаешься. – И выводит бодрым жеребячьим тенорком: – «Ты ж, моя Настасья, ты мне даришь счастье...»
«И чего Петра Андреевича понесло именно в уборочную за зерном? – думаю я. – Не ломота ему в спину кланяться милиционерам да трястись от страху? А если бы дядя Петя не смог загипнотизировать мильтона, что бы тогда было?» – рождается в моей голове простая мысль.
– Тюрьма, – отвечает на немой вопрос моих глаз дядя Петя с откровенной простотой. – Года три бы впендюрили. И, самое главное, партбилет – на стол.
Это магическое слово «партбилет» надолго откладывается в моем мозгу. Я погружаюсь в долгие размышления о собственных грешках, провинностях одноклассников и прикидываю, что к чему.
...Старшеклассники выкрали в кабинетехимии металлический калий и на задах школы, где мелюзга обучалась курить «не в себя», устроили серию шикарных взрывов. Калий, брошенный в мокрый снег, затаившись, лежал несколько секунд тихо, затем пыхтел недовольным дымком – и вдруг поддавал внушительным хлопком, разбрызгивая по сторонам воду, огонь и снег. Восторг стал понемногу утихать, когда у нескольких человек стало разъедать кожу, и они рванули в туалет. Одному бедолаге щёлочь попала в глаз, и он дёрнул прямиком в учительскую, к тем, от кого только что прятался с запретным удовольствием. И там в перерывах между рыданиями и всхлипываниями с перепугу сдал участников испытаний и воровства.
Информация, просочившаяся в горние выси администрации школы, повела себя аналогично металлическому калию, брошенному в мокрый снег. Многообещающее затишье, саркастический зловещий дымок распоряжений, вызовов отцов в школу и прочих маневров – и наконец, после директорского пыхтения, восхитительный взрыв родительских чувств, порок, объявлений о снижении отметок по поведению за четверть. На взрывы наложили мораторий, а организаторов чуть не вытурили из школы – такова была плата за неописуемый восторг, который мы задаром испытали на школьных задворках.
Пока дядя Петя «примораживал» жезл к штанам милиционера на очередном посту, я сосредоточенно прикидывал, сколько же весят мои грешки в школе и куда «в случае чего», как говорил отец, пойдет моя душа. В мирском плане выходило, что за пять граммов калия могли вызвать на совет дружины, а за четыре мешка зерна – посадить в тюрьму С другой стороны, обе наши с дядей Петей души за воровство должны загреметь в ад, «к чертям собачьим».
«Вот бы достать партбилет, натырить зерна да жить припеваючи, – приходит в мою головёнку. – Да ещёчтобы день ненормированный был».
А вслух я произношу главный вывод всех своих прикидок и вычислений:
– Один партбилет весит больше, чем пять килограммов калия.
– Чего?! – дядя Петя от неожиданности пропускает ухаб. Он подруливает к обочине, притормаживает и выключает двигатель.
И я выкладываю дяде Пете свои соображения.
– И много стырили? - живо интересуется тот.
– Вот это да! – По его интонации я понял, что Петр Андреевич прямо по приезде не прочь снять учительский мораторий и, если остался калий, устроить показательный взрыв.
– Согласно нормы, – авторитетно заверяю я. – Там ещёполбанки осталось.
К чести дяди Пети, он не вовсе списывает мои расчеты, и мы даже принимаем новый эталон меры человеческих прегрешений, равный одному грамму калия. Так, возвратившись с ванной рыбы, пойманной браконьерским способом, дядя Петя оговаривает нарушение закона в семь граммов калия, а Витьке Шапошникову, пойманному с убитым лосем во второй раз, дали отсидки на целых полкило. Само собой, пока Виктор отмотает срок, калий прореагирует с внешней средой взрывами, отнимающими у браконьера несколько лет жизни, и превратится в едкое кали, испортит здоровье, характер и репутацию, с которыми он вернется из тюрьмы.
– А репутацию – это не куфайку после дождя высушить, – приговаривает дядя.
Если отец про браконьерство говорил, что потом всю жизнь нехорошо отрыгаться будет, что язык можно прикусить, то дядя Петя отныне пользовался только одной меркой.
– Да то, что я сейчас сделал, – говорил он отцу, возвращаясь с полей, где настрелял с подъезда из мелкокалиберной винтовки косачей, – и трёх граммов калия не стоит, вон у сына спроси. Это вон те, которые химизацию ввели да всю птицу уничтожили, – главные виновники.
Та закономерность, что за любой восторг приходится платить разочарованием, эти превращения калия во всёразъедающую щёлочь ещёне были мною изучены и соотнесены друг с другом. Наоборот, казалось мне, ради ошеломляющих восторгов и стоило жить на белом свете.
Отец же упорствовал – жил по-своему, не воровал, не ловчил. Было ещёнечто, как понимал я, дороже возможности приобретать, иметь, хапать и доставать – это оставаться честным, незапятнанным, что вызывало в людях уважение, а отцу прибавляло сил. У мамы же отцовская стойкость вызывала только раздражение.
– Вон какие люди предприимчивые, – говорила она не раз за столом, – там достают чего-нибудь, там перепродают, подрабатывают в нескольких местах. Ты же – ни в зуб ногой. Я одна, как белка в колесе, кручусь день- деньской. Чего боится – воды не взмутит! Погляди на людей-то! Один кубометр досок с работы вывез, другой мешок зерна, третий поддон кирпича вывалит...
– Семь, три, восемь граммов калия, – привычно перевожу я вслух меру наказания за предполагаемые дела.
Мама тревожно задумывается о моей вменяемости, а отец отделывается пушкинской строкой:
– Ступай к морю, попроси рыбку..
– Конечно, кошка тоже горчицу лижет, – снова издалека заводит невод мама. – На одну зарплату нынче не проживёшь. Парень вон подрастать начинает – его обеспечить надо. Сколько ждать, когда жареный петух в задницу клюнет? Лучше загодя что-нибудь предпринять, чем потом локти кусать.
«Почему кошка горчицу лижет», – на это ответит мне дядя Петя: «Когда ей задницу намажут». Насчет жареного петуха вопрос останется открытым, а укушение локтей я испытал на себе и чуть не вывихнул руку.
– «Никуда не денести, влюбисти и женисти», – со вздохом заключаю я.
4. ПОКОСНЫЙ ДЕНЬ
– Ну вот, что вчера натворил? – Мария Михайловна прямо-таки летела по ряду, поворачивая его. – Только на стожок повернула – дождик надумал. Ни раньше, ни после. Теперь Самому же и сушить. А и мы хороши: соскочила утром с кровати, молитвы не сотворила – и айда на покос. Прилабонила – барыня в салопе. Все торопишься, бегом, лоб разлысишь, время икономишь, а выходит наоборот. Не торопилась бы, делала все черёдно – и везде бы успела. Учить нас надо, дураков. Ну да ладно, чё теперь-то уж? Кто помочит, Тот и высушит.
Как нынче стали жить – глядеть лихо. С утра – вприпрыжку. Одни шары продерут – и на работу плант выполнять, другие ребятёшек полусонных в школу выталкивают да в ясли ташшат. И остановиться, подумать некогда. Не то ли что чё, а вот чё. И мы, на них глядя, лоб не перекрестим – скорей за дело. С работы придут – только и разговоров, что помоднее одеть да друг перед дружкой выщелкнуться. И за что только нас, дураков, Господь любит?
Мария Михайловна остановилась передохнуть и поглядела на небо. День намечался погожий, ведренный. В сердце привычно толкнулась печаль: снова одна. И тут же спохватилась: с Богом! Да внучек ещё– всёвеселей. Может, на стог его сегодня посадим – вот радости-то. Только не сломился бы со стогу – спаси Бог!
Взгляд ее невольно поискал балаган и внучека, возившегося там с ягодами: он нанизывал их на былинку, чтобы угостить потом мать.
– Больно уж простой внучек-то растет. Уж проще его, кажись, никого и нету. А и умственный – все о чем-то думает, соображает. Хотя в школе не хвалят, уроки с боем заставляют учить. И на покосе-то: примется букашек разглядывать – часами сидит. А на то и детство, чтобы успеть каждую букашечку разглядеть.
Мария Михайловна снова принялась ворочать ряды, вся в своих привычных думах, и, закончив еланку, побрела к балагану. Там над затухающими углями костра силилась закипеть вода на чай. Мария Михайловна подкинула сухих дровец и разложила на платке еду. Внучек помогал бабушке: нарезал хлеба, почистил яички, посолил дольки огурцов. В обед можно будет сварить супчик, а сейчас обойдемся чайком.
– Вот мы сейчас с тобой и позавтракаем, – сказала она внучеку. – А дедка Ваня на нас сверху поглядит, как мы тут управляемся, да порадуется. Да пожалеет меня, горемычную. Хоть и по-всякому жили, а всёполегче было вдвоем. Нынче всёсамой приходится: и зуб у граблей вставить, и кол на остожье вырубить. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик.
Вода в котелке закипела. Мария Михайловна сунула в кипяток принесённый пучок зверобоя, сняла котелок с огня. И они сели с внучеком завтракать. Если внучек на свежем воздухе уписывал за обе щеки, то Мария Михайловна вкушала неторопливо и с удовольствием. С той размеренностью, передававшейся по наследству, человека, живущего своим трудом. И так же обстоятельно текли ее мысли.
Он бы и не показался, свой кусок, этаким сладким, если бы по-другому доставался. И сено, и вся работа. Кому в мученье, а кому в радость. Ну, жарко бывает, мошкара в глаза лезет, а дома и того не увидишь, что здесь. Пока идёшь до покоса, и ягодку попробуешь, и грибков наберёшь. Не улежно, так уедно. Успеешь ещёналежаться-то. Там, в темноте, поди ещёхуже.
Внучек, до которого долетало бормотание бабушки, невольно задумывался над еёсловами и как мог детским своим умишком постигал услышанное. Той загробной темноты он давно боялся. И потому старался здесь загодя вкусить радостей земных, чтобы с запасом. Чтобы потом не пришлось локти кусать, как говорит дядя Петя: вовремя надо сопливых целовать. Насчет сопливых целовать – не велико удовольствие, а вот на покосе откушать всего вдоволь – только давай.
Внучек ел да помалкивал: он «на руках повис» сегодня у бабушки, пока та не взяла его на сенокос. Уж чего только он не обещал: и что от комаров не будет реветь, и черемику весь день выбирать станет, и, если тяжело придётся, не захнычет.
Мария Михайловна же снова ухнула в свои мысли. Что такое жизнь? Не есть ли это один длинный летний день, кажущийся в молодости бесконечным, а после – коротким, почти незаметным мигом? Никто не держал в руках время, не останавливал его. И что такое счастье? Это когда времени не замечаешь. Живешь одним мигом. Было ли у них с Иваном счастье? Да как же не было? Правда, не хотела она выходить за него – молоденькую отдали. Ну да раньше все почти этак выходили. Стерпится – слюбится, не будешь всю жизнь дуться. Сейчас, по прошествии времени, всёдурное забылось, осталось одно хорошее. И, как бывало, ждала Ивана, когда тот должен был вернуться с артельной работы. Сидишь, ручками подперев голову, все думы передумаешь. И как вдвоём почти дом строили, катали помочью сруб, как тяжело подымались. А зато и милее было свое – коли такие труды были положены. Бедному жениться – ночь коротка.
– Ну что, поел? – Мария Михайловна наконец отрешилась от своих дум. Сколько их ни думай, твою работу никто за тебя не сделает. – Пора начинать.Пойдем, будешь черемику собирать. – Она поглядела на небо, прикидывая, ждать ли нынче дождя, и вновь вспомнились слова мужа, когда того спрашивали, какая будет погода. «Или дождь, или вёдро, третьего не дано», – отвечал тот.
Мария Михайловна ловко скатывала ряды в валки; не беда, что сено чуток сыроватое – обдует. Внучек, исполняя обещанное, собирал сочную, невысохшую черемику, складывал еёв кучки. Слепни начинали звереть, лезли в глаза. Мария Михайловна, закончив с греблей, взялась за вилы и начала носить поспевшее сено в стог. Подавалось понемногу, но вот уже закрыло баганы, скоро половина будет уложена, а там можно вершить.
– Ты не торопись, – учила внучека бабушка. – Не гонись за временем. Старайся, чтобы сила даром не пропадала. Другой до того работяшшай – рукосломный. А толку нету, – Мария Михайловна помолчала, словно перебирая в уме своих знакомых и добавила. – Рукосломительный.
Ей пришел на ум сват Александр Антонович, который был непревзойденным косцом. Он подбирал косу скрупулезно, тщательно доводил ее до совершенства – и коса «летела» по траве. Только поправляй её– сама косила. Старику было давно за семьдесят, а в косьбе за ним угнаться никто не мог.
Парило. Облачка плыли непонятной природы: то безмятежно-лёгкие, то откуда ни возьмись наплывала мощная туча. Иван Хрисанфович как-то услышал от соседа, хваставшего, как тот удачно управился с сеном «из-под дождя»: «На соседнем покосе мочит, мы – гребем!» – «Это ещёчто, – отозвался Иван, – вот у нас, бывало, гребли: один ряд мокрый, другой – сухой!»
И Мария Михайловна решила нагресть ещёна один стожок. К вечеру собирался приехать зять с дочерью, самое время бы метать по холодку. Увлекшись работой сама, Мария Михайловна втянула в неёи внучека, и тому передался еёазарт. За работой и не заметили, как заполнилось сеном второе остожье и замерли в ожидании завершения незаконченные стожки.
Все чаще поглядывала Мария Михайловна на дорогу в надежде увидеть мотоцикл зятя, вслушивалась и молила Бога, чтобы не было дождя.
Наконец послышалось долгожданное урчание мотоцикла. Зять подрулил к стану, выключил двигатель, с ходу схватил вилы. Выражение вины за опоздание постепенно разгладилось на его лице, когда он принялся за работу. Мускулы стосковались по делу, привычному с детства, душа также насыщалась трудом. Бросив несколько навильников на стог именно так, как требовалось, чтобы он обрел законченность формы, отец подсадил сына, чтобы тот предварительно потоптал сено.
И тут грянул гром. Неожиданно подкравшись из «гнилого угла», наплыла туча и лениво, словно давая последний шанс сгрести, закрывала небо. Капнула молния. Небо треснуло по швам.
Как заторопились покосники! И на удивление быстро, споро пошло дело. На первый стожок взобралась бабушка. Как ловко подхватила она граблями пласты, как точно клал навильники отец! Завершив стог и по веревке по-молодому спустившись с него, Мария Михайловна живо взобралась на другой и начала ходить вокруг кола. Уже начали падать первые капли, когда она клала переметенки.
...Мария Михайловна лежала под стогом, радость за день, проведенный не зря, переполняла еёдушу. Она смотрела на другой стожок, которому был уже не страшен хлеставший его дождь, на еланку с чуть подросшей отавой. И некая мысль, тревожно толкнувшаяся в душу, желание завершенности вдруг властно позвало еёвыйти наружу. Она вылезла из-под стога, зашла за него так, чтобы никто из родных не видел её, ревниво охраняя этот заключительный акт, и, вкладывая в слова молитвы всю душу, истово перекрестилась:
– Слава Тебе, Господи!
5. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
По улице Ленина, куда мы переселились в новый дом, по утрам на завод и с него на обед проходили стройные шеренги парней и девушек, одетых в синюю форму. Это были воспитанники ремесленного училища или, как их звали, ремесленники. На заводе были мастерские, где практиковались будущие токари, слесари и формовщики, а в конце улицы Ленина располагалось само училище, где, согласно висевшему на нем лозунгу, готовились «трудовые резервы».
Народ в училище подбирался из близлежащих городов и деревень, часть их жила в общежитии, остальные подыскивали квартиры. Брала на постой ремесленников и моя бабка Маня. Для неёремесленники становились более чем квартирантами. За два года учёбы они успевали прирасти к ней сердцем, парни много лет потом писали ей, как живут, приезжали в гости. Они роднились с бабушкой душами: отринутые в подростковом возрасте от семьи, видели в ней мать, а квартира делалась родительским домом.
Это была новизна – другие люди с чужедальних краев, они привносили в жизнь разнообразие. Володя Сутугин играл на баяне, Вася Меньшиков – на гармошке. Они пели частушки, народные и эстрадные песни, тогдашний авангард. «Куба – любовь моя», песни из кинофильма «Человек-амфибия» и другие – мы подхватывали их и распевали на улице. От этих песен веяло дальними странами, экзотикой, необычным и непохожим на наш мир Западом. Стражи идеологии косились на эти песни с нескрываемой тревогой, они раздували ноздри, чуя вольный душок, сочившийся от «Рула, ты Рула», которую наяривал на лавочке девчонкам Вася Меньшиков.
Бабушка пускала на жительство только парней – после того, как однажды взяла на полгода девчонок. Эти «холеры» ее «объегорили» в квартплате, которую истратили на конфеты, утащили чёсанки и вдобавок без родительского присмотра начали «закуделивать» с парнями.
– Вольные, вопчем, – рассказывала баба Маня про «девок» своей сестре, тете Лизе. – Верченые!
– Марея, не доводи до греха, – советовала тетя Лиза «от простой поры», – сообчи родителям, пускай едут, забирают их к рожнам.
– Выгони их, ломота им в спину, – слышалось от другой сестры, тети Зои. – Притащат тебе в подоле – как родителям в глаза глядеть?
Я помню, как девчонки красили губы, завивали калёными гвоздями кудри, красили волосы, не стесняясь моего присутствия, примеряли платья. Мне тогда было уже 11— 12 лет, и Венерка, самая «бойкушшая», как-то заприметила мой просыпающийся взгляд. Она любила подурить, подзадорить остальных, носилась по избе «как окаяшка» и всёстремилась растормошить меня. Взглянуть в еёглаза было жутковато и притягательно. Собираясь однажды на очередную «свиданку», она торопливо одевалась, и вот лихим движением вскинула подол, вздернула чулок и ловко прицепила его подтяжкой.
– Понял, как надо? — насмешливо проговорила она мне, темноте дремучей.
После того как бабка Маня в качестве педагога потерпела с девушкамипоражение, были запущены на жительство парни. Прекрасный пол с той поры осмеливался материализоваться только в виде фотографических карточек, хихиканья до 11 вечера на лавочке и вздохов парней на сон грядущий. Судьба «захтеп» была одна: в свой черед каждая фотография, повисев на видном месте, стыдливо пряталась парнями в шкаф или урнировалась, а на ее месте появлялась другая. Сколько этих девчоночьих глаз, взывавших с фотографий с желанием понравиться, заглядывало в мою душу, сколько любовных историй услышал я от парней! Каждый роман всесторонне и подробно доводился до сведения бабушки, а та «ничтоже сумняся» пересказывала его сестрам. За отсутствием собственной личной жизни душа реабилитировала себя в чужой.
– Вот чё вить, вот чё вить! — слышалось от тети Лизы. — Айда-ка ты! Однова не думала.
– Не то ли что чё, а вот чё! — вторила тетя Зоя.
Вместе с ремесленниками баба Маня переживала все веяния времени, волны большой политики, которые разбивались о глыбы областных центров и докатывались до провинциальных захолустных кустов мелкой рябью. Так, хрущевская оттепель с развенчиванием сталинского императива дошла чуть заметным слухом и произвела в народе действие едва ли не противоположное. Старики-ветераны, шедшие в бой с именем Сталина, горячо защищали «вождя народов», а «Хрущев со своей кукурузой, кто он ещётакой?» «Он ить, может, ничё не знал про нарушения, – говорили про Сталина, – скрывали от него, а сами творили, чё хотели». – «Вредительства много было, – вторили другие, – шпионаж вон какой. Едакой страной править – шутка в деле».
Сталин представлялся мне гигантом, который почти в одиночку расправился с ордой фашистов и которого потом нехорошие дяди ввели в обман.
Новые ветры доносились до глубинки едва заметными дуновениями, мс успевавшими расколыхать установившиеся запахи. Смешиваясь с привычными миазмами, они порождали своеобразные производные. Тот, кто вкусил свежих воздухов, сильно рисковал в провинции оказаться непонятым или прослыть ненормальным. Заматерелый провинциал, приученный к болотной гремучей смеси газов, расценивал свежий воздух как новый необычный запах и, продегустировав его, отвращал свой нос к привычной духоте.
Бабу Маню вместе с ремесленной молодежью заносило вихревыми потоками иной раз шибко влево, в самый авангард, хотя другой ногой она умудрялась оставаться в сугубо правом крыле. Когда появились первые стиляги, баба Маня с сестрами дружно осудили их нестандарт. В трезвом утреннем разговоре, когда женщины вернулись из очереди за белым хлебным пайком, получалось, что «штаны эти они с мылом надевают», а на короткие узкие юбки «стиль морковкой» и вовсе зазорно глядеть.
— И ломота им в спину не сядет этак одеваться?
— Это нам, бабам, лихо смотреть, а мужикам каково?
— Другой раз взять, задрать ей юбку да крапивы в ритузы накласть, вот будет всяко и хорошо.
— Живо подольше сарафан наденет, да пошире, а то идёт – вся задница наголе.
— Не то ли что чё, а вот чё!
— Это что же началось-то? – пытались женщины объять необъятное. – Если все бабы начнут в таких юбках ёндать, то что получится?
И женщины замолкали. Их глаза смотрели в глубь себя, в свое представление того, что получится.
Но в обед приходили парни и огорошивали бабу Маню тем, что собираются перешивать свои форменные брюки на узкие.
— Сантиметров на десять убавим, – пояснял Вася Меньшиков, пользуясь бабушкиным столбняком, – чтобы только можно было надеть.
— Да вы чё же над собою делаете, ребятёшки? – слабо сопротивлялась баба Маня. – Люди ведь осудют.
Но Вася уже выкатывал на середину комнаты швейную машинку «Зингер», Юра Гильмиянов распарывал по шву штанину. К вечеру, оставаясь в ортодоксальном крыле, бабушка была вовлечена в левизну передового движения, вовсю стрекотала на машинке, Юра подавал последнюю штанину, а Вася дожидался контрольной примерки.
— Парням-то уж ладно, – виновато приговаривала бабушка, – девкам бы ни за что бы не стала юбки переделывать.
Ремесленники натянули «с мылом» штаны, оглядели друг друга и стайкой отбыли в училище на ужин. В глазах обывательских дочек и юнцов, выставившихся из окна, насмешка и удивление смешивались с завистью, и от окон их было «за уши не отташшить». Отцы и матери без труда прочитали в глазах своих чад работу мысли, и пока слово еще не выпорхнуло из осмелевших уст, родители с присущей провинциалу нетерпимостью ударяли как обухом по головам: «Только попробуй у меня. Совсем штаны отберу – и из дому не выйдешь!»
Ремесленники, квартировавшие у бабушки, приняли мученический венец от застигнутых врасплох стражей идеологии. Единственное, что им удалось, это занести бациллу зависти в молодежь да поколебать педагогический авторитет начальства, ставший в результате встряски ещёкрепче. Ребят, появившихся на ужине в узких брюках, сначала хотели совсем лишить питания («Пусть вас Америка кормит»), потом, налив им супика, пригрозили разбирательством на комсомольском собрании, вызовом родителей из-за тридевяти земель.
Парни возвратились домой другими, с обвисшими крылышками и ещёчем-то сломанным – в душе. Они не стояли на мосту или в воротах с куревом – даже курить им расхотелось, а скорее прошмыгнули во двор. Они не вышли вечером на завалинку, где обычно Вася играл на гармошке, Юра рассказывал анекдоты, а Володя неумело шутил, – молча распороли брюки, и бабушка, предусмотрительно не обрезавшая материал, восстановила их былую ширину. Раньше обычного, в светлых сумерках улеглись спать – парням друг другу в глаза смотреть не хотелось.
– Только нитки зря перевели, – резюмировала весь мальчишечий переполох бабушка с высоты русской печи.
6. СТЕПАН ЛУКИЧ
Его я помню еще детским любопытствующим умом. Летом, на покосе, Степан Лукич подъехал к нам в полдень – мы обедали. Он восседал на вороном мерине перед обедающими соседями со стороны солнца. Смотреть на него из-за слепящих лучей было невмоготу, и это придавало ему особое величие. Мерин гарцевал под хозяином, мотал башкой, борясь со слепнями, прядал ушами, громыхал кутазом, а Степан Лукич все никак не сходил с места. Со стороны картина походила на разговор полководца с порабощенными племенами.
— Я ведь всю войну... от звонка до звонка, – гремело с горних высей. – И ни одного взыскания. А все почему? Уж если сказали, чтобы выполнил, – точка. У меня чтобы кто устав нарушил – к ногтю. Всяко ведь бывало.
— Ты где служил-то, в каких войсках? – спрашивает отец. Вообще-то он давно знает, что Степан Лукич был интендантом, всю войну заведовал складами, но нам сегодня помогают ремесленники – и вот для них-то и восстанавливает полноту картины мой отец.
— Интендантом такого-то полка, – отвечает наш бравый вояка. – Уволен в запас в таком-то году, в чине капитана. Я говорю, всякое бывало. Раз захожу и каптёрку при складе – там всегда четверо в карауле бывало – вижу: жуются. Что взяли?» – приступил к солдатам. Те глаза опустили – молчат. Понятно, молодые, голодно. Я тогда их по одному в кабинет вызвал, допросил. Оказывается, зерно потаскивают. Я доложил, куда следоват, солдат – под арест. Из штаба звонят: в связи с особо тяжелым положением на фронте примять самые строгие меры. А какие самые строгие?
— Неужели расстрел? – вырвалось у меня.
— Трибунал.
Степан Лукич и не уловил перемены настроения у слушавших, только лошадь под ним фыркнула и помотала головой. У обедающих возникла пауза, кусок в горло не лез. Словно минута молчания возникла – в память по тем безвестным солдатикам, сгинувшим из-за горстки зерна.
— А куда деться? – продолжал гарцевать на лошади Степан Лукич. – Дай поблажку – всёбы разворовали. И меня бы на фронт или того хуже – в штрафбат. А так, я говорю, за столько лет – и ни одного взыскания. Ну ладно, обедайте. Пойти тоже ворочать начинать. Где-то Славки нету – пошел харюзов на уху поймать.
Степан Лукич отбыл на мерине восвояси, а мы в молчании допивали чай. Судьба солдат ни у кого не шла из головы.
Степан Лукич был какой-то шишкой в сложной иерархии администрации города. Конечно, реальная власть была у секретаря, но и со Степаном Лукичом считались. Например, во время призыва Степан Лукич сходил в военкомат – и его сына отправили служить в Германию, в элитные войска. Оттуда парень привёз много диковинного шмутья: рубашек с пластмассовыми воротничками, зажигалок, кофемолку. Пахнуло нездешним экзотическим миром, и снова привычные миазмы задушили необычный аромат. Славка ходил в узких «с мылом» надетых брючках, носил тоненькие пижонские усики, вообще был парень хоть куда. Он был добрым, слегка избалованным и неприспособленным к жизни. Пожалуй, те годы были отмечены процветанием их семьи – по «прикиду», по тому, что в числе первых Славка ездил на мотоцикле «Урал». Первым же был Генка Мурыгин, у которого мать работала продавцом. Этот начинал «храпеть» где-то в начале улицы, с вихрем пёр к середине, разгоняясь все больше, и тормозил только перед поворотом. На середине же улицы Генка превращался в некое инопланетное существо, чудом удерживающееся в седле диковинного аппарата, – с остекленевшими «шарами», зверовидным лицом, с пальцами, намертво вцепившимися в руль. Картина сильная, не то что гонки нынешних рокеров.
Я не знаю, что находили девчонки в езде на Генкином мотоцикле – наверное, безумную радость, что в конце концов вылезали из коляски живыми. В Нязепетровске было полно этого добра – лихачей, которые на спор проезжали по центру в подштанниках, как это делал Сергей Никифоров по кличке Сэр, будущий милиционер.
Я, пожалуй, сделаю отступление в адрес Сергея Никифорова, ибо однажды по пьянке – мы раздавили всего только второй пузырь ноль восемь литра красного за деревянной школой в горсаду – Сэр попросил: «Сергей, пропиши в своей литературе, что живет на свете Сэр Никифоров, хороший человек».
Сергей, проработав несколько лет в уголовном розыске, ушёл из рядов доблестной милиции потому, что там наказывали «ни за чё». «Смотрим раз на дежурстве кино по телеку. Вижу, на экране милиционеры бегут. Я дежурному в бок тычу: э, смотри, мусора бегут!» За «мусоров» Сергею вкатили наряд, хотя тут же простили за хорошую раскрываемость и бесстрашие.
– Сам ушёл, – объяснял свое увольнение из органов Сергей. – Надоело. Приезжаю на место происшествия: покойник. Другой раз выехал – то же самое. Третий раз – опять. Я встал и говорю: «Сколько может быть покойников?»
Перед кем встал Сэр и кому говорил, мне неизвестно, но ушёл работать он на монетный двор, потому что детям «кушать надо».
Так вот, в детстве Сергей прыгал в воду с Уфимского моста вниз головой или «солдатиком». Однажды он наблюдал сверху, как под мостом ребята выгнали из-под плиты большого налима.
– Эй, посторонись, – услышали они с моста над собой.
Ребята подняли головы и увидели Сэра, который держал в руках здоровенный плоский камень, готовясь отпустить его. Те бросились врассыпную, Сэр выпустил камень и оглушил налима. С ним, подвешенным на руке, Сэр проехал в подштанниках по площади на ИЖ-49, двухколёсном мотоцикле, причем нога на ногу, о чём вечером толковала восхищенная нязепетровская публика.
Так что «Лукичев Славка», как называла его баба Маня, был середнячок. Он был скорее неудачником, родившись в своей семье, хотя родителей не выбирают, – всёу них шло «на исак курносого». Родители сильно пили, и постепенно в это дело втянулся Славка. Он поехал пьяным к подруге – и тяжело травмировался на мотоцикле. Вскоре за пьянство полетел с Олимпа и его отец, его пересадили на хозяйственную должность, где, прикрывшись партбилетом, он не имел ни одного «взыскания», – и наконец проводили на пенсию.
Совсем другим помню я Степана Лукича, когда приезжал домой уже студентом. Бабка Маня уже жила у нас – за немощью, потому что не могла содержать себя дома сама.
– Осподи, никак воротички схлопнули? Небось, опять Лукич идёт.
– Идёт, холера его задави. И чего надо – с утра?
– Знамо дело, чего. Дома поись нечего, вот и ёндает с утра туды-сюды. Пропилися, пробубенилися.
— Так ведь своя пенсия вон какая, да у хозяйки. Персональную охлопотал. Не то что мне – семнадцать копеек доплачиваю, чтобы восемнадцать рублей получить.
— А на вино хоть трижды персональная, всёодно не хватит.
Степан Лукич зашёл в дом, поздоровался (раньше он, идя по улице, и не глядел на встречных) и замер столбняком у косяка. Его застывшая статуей фигура являла изумление, что не приглашают пройти и сесть. Он был по-прежнему наголо выбрит, глаза слегка навыкате. Но вот статуя шелохнулась, робко опустилась на краешек табурета у двери и подала голос.
— Вы завтракали?
— Поели, – ответила бабушка. – Слава Богу.
— А что ели? – с надеждой спросил Степан Лукич.
— Что Бог послал. Оладьи с маслом, картошки вон остались.
— А мне не дадите? – с этого человека, привыкшего властвовать, вдруг слетела вся фанаберия.
— Айда, садись к столу.
Мама щедро наложила в миску картошек, придвинула к Степану Лукичу. Налила молока, достала чашку с кислой капустой. Степан Лукич стал есть с жадностью изголодавшегося человека. Вдруг я увидел на его глазах слёзы и вспомнил про солдатиков – может быть, даже расстрелянных по приговору военного трибунала – тогда не церемонились.
— Дома... – всхлипнул Степан Лукич, – лежит с утра пьяная, Славка не евши на работу ушёл. Ведь я до чего дожил: нестиранные ходим. А ведь всю жизнь... ни одного взыскания...
— Ладно, ешь давай. «Взыскания».
Степан Лукич, подкрепившись, отправлялся по знакомому кругу инстанций, и жену по старой памяти снова устраивали в какой-нибудь магазин продавцом. И опять еёвыгоняли после того, как она засыпала за прилавком, а покупатели, кто посовестливее, оставляли деньги за вино, а иные уходили не заплатив.
Хуже всего было, пожалуй, Славе.
— Ему-то за что такая доля, – не раз заводили разговор мама с бабушкой, – он-то в чем виноват?
— Как в чем? – подавала с печки голос бабка Анисья. – Сказано: отец виноват – на детях проклятье. Господь всякого вину знает. До седьмого колена... При Лукиче церкву разрушили. Кому мешала? Как птица на краю пруда. Идешь, бывало, из Тверской – солнышко на куполах играет, ни ветерка, а она в воде отражается. Теперь вот ни одной церкви на город, помолиться негде.
Бабка Анисья снова замолкала. Ее нездоровье, то, что приходилось выносить из-под больной, заставили вырваться у бабки Мани слова, за которые она потом сполна ответила: «Она ведь меня переживет!»
Не пережила. А вот бабку Маню Господь наказал столь же изнурительным долголетием, к которому в назидание прибавил недуги. И уже тогда готовилась, зрела мысль: а чем же Степан Лукич кончит?
Шло время. Проходило лето, залетывали «белые мухи», и привычно схлопывали воротички за Степаном Лукичом. Уже давно схоронили бабку Анисью, а Степан Лукич всётоптал землю. Он замучил своими болезнями врачей. Не замечал, как мочился на приёме. В свирепом запое дома лежала посиневшая в водянке жена, а он шёл по свету, заставлял думать. Удивительна жизнь. Есть в ней место поступку, есть и время подумать, что сотворил. Есть выбор сказать «да» или «нет». И есть судьба тех, кто всю жизнь исполнял, что приказывали, не имея по службе ни одного «взыскания». Другое взыскание существует – Божье.
Сейчас, глядя на Степана Лукича, вспоминала бабка Маня прошлые заимочные дела спокойно, без озлобления. Оборонил Господь близких от участия в смуте – ни один ни у красных, ни у белых не отметился. Уходил и в лес, по заимкам отсиживались. Не рассчитывали на будущий почет, чтобы урвать потом от щедрот победителей, – на себя всю жизнь надеялись. А и вон как повернулось – все равно обвиноватили: заимочники, мол, белым помогали. А приди другие – снова, поди, виноватыми бы оказались – красных на постое привечали. И так нехорошо, и по-другому неладно. Всёбы ничего, стерпелось, да за брата обидно. За то, что доклевали-таки его, уже у туберкулёзного отобрали кружку молока, свели в могилу. Вот такие и свели – умники. Смотрела бабушка на торопливо и неряшливо евшего Степана Лукича – и что-то дрогнуло в душе её. Сходила в сенки, налила ему ещёкружку молока.
— Ты чего, Марея? Я бы так... – в голосе Степана Лукича дрогнули слезы. – Я ведь вас завсегда... У меня ведь по службе...
— Ешь знай, «по службе». Дослужился вон – в ремках остался.
«Пусть поест, сердешный, подумает. Может, поймёт чего-нибудь», – умиротворенно подумала она.
...Вместо того чтобы дойти до больницы, где лежал парализованный сын, Степан Лукич заходил по дороге в лавку, отоваривался бутылкой и втихомолку выпивал еёза углом. И не мог дойти ни до больницы, ни до дома. Несколько раз Степана Лукича подбирал вытрезвитель, где, опознав бывшее начальство, выгоняли его на холод, в осеннюю слякоть, милостиво не заполняя протокол. Кое-как добирался Степан Лукич до своего дома, который надо было ещёи топить, находил лежащую в беспамятстве жену и горько и безутешно плакал. О чём он думал? О былом своем могуществе, когда трепетали перед ним подчиненные? О роскошных и безбедных днях военного интендантства? О том, как нашёл среди военных медсестер свою жену, уже пристрастившуюся к спирту? Тогда казалось это безболезненным, нормальным – пили почти все. Фронтовые сто граммов к вечеру превращались в триста – ибо к концу дня оставалось до трети личного состава... Слезами душа омывается, и полегче делалось Степану Лукичу, и вновь шагал он сквозь вьюгу к людям развеять печаль и заставляя их думать.
9 мая у нас дома собираются фронтовики – праздновать День Победы. Приходил Николай Николаевич Лопатин, директор ремесленного училища, в котором работал мой отец. В первые же дни войны эшелон, в котором ехал Николай Николаевич, разбомбили. Сам он уцелел потому, что во время взрыва бомбы успел заскочить в нишу водонапорной башни – его только сильно контузило. Поразительны были его рассказы о госпиталях, – ничего общего с тем, что писалось в военных книгах, – когда бинты шевелились ото вшей, о заключительных днях войны, когда после артобстрела оставались одни руины.
— Сумасшедших сколько бродило – жуть! – заканчивал рассказ Николай Николаевич.
Алексей Николаевич Мохов служил офицером в штрафном батальоне. Он поражался смелости штрафников, разгуливающих под пулями, – им надо было кровью зарабатывать прощение.
Отец мой «хватанул» семь лет службы: два года до войны и после нее отправили на Дальний Восток. На рассказе о том, как его друга, вернувшегося домой, не узнал родной отец, родитель мой привычно плачет. Я не выношу вида слёз, особенно мужских, и выхожу во двор. Там, на лавочке у ворот, сидят соседские старухи. Подходит и Степан Лукич, но появиться в доме не решается. Он молча подсаживается к нам.
— Пируют? – спрашивает наконец он.
— Пируют, – отвечаю я.
— А ты чё же, поел уж?
— Поел.
— А чё ели?
— Сначала холодец, грибы, огурцы, винегрет, – перечисляю я, не замечая своей жестокости по отношению к голодному человеку. – Потом пирмени, оладьи с маслом... Ещёчай будем пить.
— А я ничё нончи не ел, – докладывает Степан Лукич. – Маковой росинки во рту не было.
До меня вдруг что-то доходит. Я незаметно встаю, иду в избу и на кухне тихой сапой набираю пирогов. Подходя к воротам, слышу голос бабки Аксиньи, непривычно жесткие интонации заставляют меня остановиться.
— А ты тех солдатиков-то хорошо накормил? На всю жизнь сытыми исделал?
— Ак я не то чтобы сам. По-другому нельзя было. Время было такое, – Степан Лукич вдруг всхлипывает. – Сделай я по-другому, меня бы на фронт, на передовую. Ведь я всю войну... Сколь потом робил, всю жизнь – одни грамоты да поощрения...
Я не выдерживаю за воротами, выношу пирогов Степану Лукичу, и тот, давясь, втихомолку съедает их.
Степан Лукич отбывает восвояси, а бабка Аксинья приговаривает ему вслед с изумлением, на которое еще способна ее душа:
– Пора костям на место. Всю его ровню Господь прибрал, а этого ещёнаверху держит. Есть на свете Бог – земля не принимает.
7. КОНСИЛИУМ ПО ПОВОДУ ЛЮБВИ
Что же такое любовь – самое простое и самое загадочное чувство на свете? «Аще любви не имам, ничто ж есмь», – сказал апостол Павел. С детства я много раз слышал это слово в самых разных ситуациях и сочетаниях. «Зачем я этак маленьких ребятёшек люблю, – не раз говаривала тетя Лиза, бабушкина сестра, – своих не дал Господь, так хоть с чужими понянчусь!» И сама бабушка, расчувствовавшись, не раз говаривала: «Ведь ты у меня первый внучек, кого же мне любить ещё?» Хотя она и к моему брату хорошо относилась, и для него находила ласковые слова: «Белопухой ты наш!» Дядя Петя тоже был неравнодушен ко мне, хотя и дирал, бывало, варнака за уши, когда тот задымил, «как больсой», папиросу. Хотя Петр Андреевич «арестовывал» это слово по отношению ко мне на выходе, но к простым вещам выпускал его на волю более свободно. «До чего я блинчатые пироги люблю!» – тот же дядя Петя. Наверное, любили меня отец и мать, только свои чувства обозначить словом не торопились. Они склонялись больше к тому, чтобы высказать мои недостатки, – что также говорило об их, по крайней мере, неравнодушии к чаду. Недостатков же было множество, они вызывали родительскую озабоченность и меры к их устранению. Видимо, туда и уходила энергия любви. Как знать, стань они потакать мне – и, глядишь, сошло бы чадо с круга, с пути истинного.
Я и сам в детстве – любил «пирмени», яички всмятку, отца и мать – хотя они и ругали меня за плохую учебу, – бабушек, дружка Борю, потом дружил с Гришкой, с которым не дружил никто. Я горько оплакивал гибель цыпушки, «самой баской», когда ее сожрал кот, но и кота любил, варнака, куда его денешь? Живя у бабушки, я удивлялся тому, что парни влюбляются в девчонок, тратят на них драгоценное время, а не на рыбалку, которую я любил «до страсти», «до смерти».
Какие-то неведомые чувства давали о себе знать еще во втором-третьем классе, но скорее это были притепленные товарищеские, а не любовные. Мы дружно просмеяли Люду Пономареву, в которую имел несчастье втюриться второгодник Витя Москвитилев. Ему-то, впрочем, это было простительно – он был на целый год старше нас, а вот Вовке Торопченке, забияке, драчуну и вожаку, того же самого делать не стоило. Это вызвало у меня потрясение и общее смятение у всех. И уж совсем не ожидал этого я от себя.
Любовь ворвалась в мою жизнь таинственной глубиной женских глаз, да таковой и осталась в душе на веки вечные.
Люда сама первой прислала мне записку на четвертушке тетрадного листа, коротенькое, но емкое послание детским неустоявшимся почерком – что я нравлюсь ей. Ну и что? И куда мне с этим? Слегка обалдевши, я спохватился, что вчера мы над подобным несчастьем, приключившимся с Торопой, дружно хохотали, и с перепугу дал прочитать записку ребятам. Мы еще раз коллективно просмеяли Людмилу. Каждый сделал это из чувства самосохранения, дабы самому не выглядеть смешным.
Однако вечером, в постели, на меня снизошли другие чувства. Сначала подкралась гордыня: Людмила выбрала именно меня, а не первых двух, которые, понятно, ей и в подметки не годились. Все-таки Людмила была красавица в классе и притом выглядела куда взрослее остальных...
На следующий день в школе я перестал узнавать себя. Я смотрел преимущественно в сторону Людмилы и находил в ней всёбольше преимуществ. И ещёнекое непознанное чувство давало о себе знать во мне. Это чувство готово было назваться любовью к женщине, если бы я осмелился на такое смелое определение. Чувство подавало о себе весть, когда мы с Людмилой и ее подружками возвращались из школы домой. Я находился в каком-то одурманенном состоянии, всёвнимание приковывала к себе эта девочка, остальные мешали. Других я видел боковым зрением, Людмилу – впрямую.
Это было загадочно и незнакомо, а значит, требовало исследования. Надо было обозначить словом то, что происходило со мной. Подобно огуречному, вопрос любви требовал изучения до конца, до точки. Тогда я ещёне знал, что на дне чаши любого позналия – горечь, горечь во всём, в чем докапываешься до конца, будь то огурец, доеденный до «хвостика», соединяющего его со стеблем, или исповедавшаяся женская душа.
Я более пристально прошелся «своим умом» по знаниям о любви, и оказалось, что багаж мой безнадёжно мал. Отец с матерью не высказывали своих чувств въявь, это было не принято. Нязепетровцы слыли пуританами – если они хоть раз примеривали к себе это слово – и вспоминали о любви после работы, картофельной грядки, покоса, рыбалки, бутылки – после всего. Всякие отклонения от норм впихивались в пословицы типа «вовремя надо было сопливых целовать» или «после времени в лес по малину не ходят». Сказанные тем же дядюшкой с назиданием и соответствующим выражением лица, они напрочь вшурупливались в мою память.
Крошка сын пошел не к отцу-матери, постеснявшись спросить их, что это за штука – любовь, да они, поди, за вечными разговорами о деньгах и провизии уже и забыли, с чем еёедят, – он направил стопы к друзьям, кое-чего повидавшим на своем веку. Срочно была создана рабочая группа из бывалых,повидавших виды уличных гангстеров. «На чердаке, где голуби в пыли мрачны, как в банке эмбрионы», мы провели некий консилиум, пресс-конференцию, где были высказаны мнения, суждения и наработки каждого в области половых отношений (секса). В откровенных высказываниях друзья-приятели пытались просветить меня, недоумка, по части любви.
Отправной постулат сделал сын учителя Коля Плешков. Он открыл мне, что люди, подобно животным, происходят от совокупления друг с другом.
– Неужели ни разу не видел, как петух кур топчет? – удивлялся Валерка Колпаков по кличке Колпак.
– А корову в живтоварищество, думаешь, зачем с бабкой водили? – наседал с другой стороны Мишка Шерстнев.
Я действительно провожал корову, сзади, с вицей, когда Малютка «загуляла», но бабушка оставила меня куковать одного за воротами почтенного заведения, и я даже не задумывался, как коров «покрывают».
– Так и люди по ночам остаются голыми для зачатия новой жизни, – высоковато сказал Скворец.
– И отец с матерью? – с ужасом вопрошал я. Если даже так, то за десяток лет они не много «новой жизни» наплодили – меня и брата.
– А как же? – безжалостно констатировал Коля Бугаенко. – Иначе откуда бы ты взялся?
– Но как это? – ошарашенно мямлил я. – Из ничего?
– От слияния мужской и женской малафьи, – с назидательной интонацией магистра-сексопатолога заключил Скворец.
«…Ну, самое большее от того, что целовались», – думал я о тайне происхождения людей и с надеждой высказывал эту мысль друзьям. Нет, истина была куда безотраднее и горше, а друзья врать не станут.
О, какой темнотой был я, барахтаясь в названиях половых органов и их частей! Друзья снисходительно просвещали меня, млея от радости первооткрывателей. О, какими подготовленными и искушенными в делах любви казались они! Друзья уверяли меня, что «слаще этого дела ничё нету», что и каждый, кто осмеливается назвать себя мужиком, проходит через любовный опыт, «хотишь ты этого или не хотишь». Некоторые даже предлагали поехать на рыбалку с ремесленницами «и там испробовать».
В конце консилиума с меня пар валил от этих разговоров. Я примеривал к себе опыт друзей и молча протестовал. Что-то не устраивало меня в дружеском подталкивании к бездне первого опыта. Хотелось чувства более светлого, а мне предлагали земное и низменное. Оно снимало романтику и низвергало высокое в грязь. Инстинктивно я старался заслониться от плотских мотивов. Клянусь, мое чувство к Людмиле было другим, оно захватывало только область груди и не опускалось ниже. Сердце мое билось учащенно, когда Люда шла рядом, когда оборачивалась на уроке, находя мои глаза. Волной тепла, как паром в бане, мне обдавало грудь. Наверное, ей самой нравились эти опыты, иначе бы она не оборачивалась. Ребята же ждали от меня конкретных действий – пора было от теории переходить к практике.
…Помнится, мы раздурились на улице с Людмилой и ее подружкой Таней Пуговкиной. Мы толкали друг друга в снег, катались по сугробам, орали, и в некий момент, уткнувшись Людмиле в щеку, я залепил ей неловкий поцелуй.
И сразу что-то произошло. Какое-то отчуждение родилось в нас обоих. Людмила смутилась, посерьезнела, игры прекратились. Мы разошлись по домам другими. Возможно, это был первый урок того, что плотская любовь снимает возвышенное чувство и нейтрализует энергетический заряд.
Дома я написал стихотворение. Как это произошло, я и сам не понял, только оторопело пялился на свеженький текст, выполненный мной по доброй воле. Не школьное упражнение, которое надо переписывать по заданию, не то, что надо учить, но самостоятельно сочиненное мной.
Идея фикс – падание в снег.
Вид умопомрачения, болезни,
Страх – и восторг, короткий вскрик и смех.
Одной. Вдвоем. В обнимку с милым другом.
Обнявшись. Кувырком. То вместе, то поврозь,
И поцелуй нечаянный, неловкий, куда-то в щеку ль в нос.
И сразу неудобство и столбняк…
Все сыплет мягкий снег.
И заметает чувства след пороша.
Остался лишь проталинкой в душе,
Местечком, где распустится подснежник,
Тот поцелуй.
Я перечитывал стих и видел его несовершенство. Но в то же время слова даже своей неуклюжестью говорили о моём чувстве. Я знал, что стоит за каждым словом и между строк. Я не понимал, что мне делать с этим стихотворением. И после долгих колебаний решился на отчаянный поступок. Я узнал адрес Людмилы и без подписи, без обратного адреса отправил его. Все это время сердце выпрыгивало у меня из груди. Расчет был таков: если Людмила любит, то догадается, от кого стихи.
Следующим потрясением было то, что свое стихотворение я увидел в руках Нинки Ведерниковой, которой по дружбе или другой причине дала прочесть его Людмила. Ох уж эта девчоночья дружба!..
На дворе же конкретных действий ждали ребята и требовали отчета о моём продвижении. Стихи их, понятно, не устраивали. Чтобы не потерять авторитета, я неуклюже отговаривался от этих завзятых сердцеедов, полководцев по части любви.
– Дак чего, как?
– Да он ещё голой бабы не видел!
– В баню ещё не подглядывал! – неслось со всех сторон.
С тёплым чувством просветителей ребята повели меня вечером к городской бане, установили караул и протолкнули к дыре, протертой в стекле окошка женского отделения. Присмотревшись, я увидел части моющихся тел, ноги, обвислые груди, широкие зады. Жгучее любопытство проснулось во мне при виде фигуры красивой зрелой женщины, которая неожиданно повернулась ко мне фасадом. Открылись пышные груди, полные бедра и роскошный тёмный треугольник волос. Не отводя взгляда от женщины, я проглотил слюну, и по моей стойке ребята решили, что пора и им ухватить кусочек счастья. И прежде чем меня отпихнули от окна, я понял, что женщина пристально глядит в мои глаза. Меня обдало не банным, а жаром изнутри, я отпрянул от окна.
– Ну-ка, чё там? – полезли было к дырке ребята, как раздался голос кочегара, визг и крики в моечной, гром тазов – и «бежал гяур быстрее лани»! – через забор, сугробы – до дома.
– Ну, понял теперь? – с надеждой спрашивали ребята на другой день.
– Понял, – говорил я, лишь бы отвязаться.
– Вот и действуй.
– Но… как?
– Ну, прямо все ему покажи, – возмущались парни. – Выбери момент, когда родителей нет дома – и вся любовь! Главное – действовать, как на войне. Не давать ей опомниться. Потом разберешься по ходу дела.
…Засыпая, я думал. Как на войне… Я и в бою-то еще ни разу не был.
Лучше бы пойти с Людмилой на рыбалку. Уж я бы посадил ее на самое клёвое место – только успевай ельцов с крючка снимать. Я бы ей… червяков насаживал, если ей самой это противно будет делать. Все-таки с любовью ребята чего-то перемудрили. Может, к ней по-другому надо подходить? А то получится, как с огурчиком, который не с того конца есть возьмешься. Тоже на горечь можно нарваться. Сначала надо что-то красивое девчонке подарить – цветы, например, целую поляну цветов. Или землянику – чтобы нетронутая была кулижка, чтобы ягод на ней было красно.
И уже когда поплыло перед глазами виденное однажды роскошное разнотравье, ягодные поляны, нашел откуда-то бабушкин родной голос:
На окошке – два цветочка, голубой да синенькой.
Про любовь никто не знает, только я да миленькой.
8. ВИД С ГОРЫ ШИХАНКИ
Прямо перед окнами бабушкиного дома проходила дорога, по которой ежедневно отмечался всякий существовавший в городишке транспорт, а также населявший улицу человек. Стройными шеренгами маршировали на завод в мастерские «трудовые резервы», дефилировали конторские, тянулись в магазин пенсионеры. Можно было день-деньской сидеть в компании старенькой бабки Анисьи и кота Васьки, благодушно вслушивающегося в процесс пищеварения, – и рассматривать идущих.
Но если было тепло, душа просилась наружу, устроиться всё в той же компании на свежевымытых нагретых утренним солнышком досках крыльца и наблюдать за вознёй маленьких недельных цыпушек. О чём думала бабка Анисья, мне было неведомо, а вот кот Василий наверняка, глядя на цыплят, нырял воспоминаниями в свое тёмное прошлое матёрого рецидивиста, когда, отследив зазевавшегося цыпленка, тащил его с горящим взглядом под сенки. Нынче перевоспитавшийся разбойник «давил косяка» на птичью возню, лицемерно думая: «Да чтоб ещё раз связался... лапой не пошевелю. Век воли не видать».
С крылечка был виден кусок бабушкиного огорода, крыша «поветей», то есть навеса, под которым были сложены дрова, дальше виделся роскошный кусок кладбища на Киселевой горе. Кто там жил, вокруг кладбища, я не знал, а вот с соседями следовало бы познакомиться поближе.
Рядом с бабушкой жилахохла,имени-фамилии ее я так и не узнал. У старухи были зелёные, как у ведьмы, молодые глаза и фантастический запас ненависти ко всему окружающему. Горе было даже безобидному цыплёнку забрести в палисадник – его находили задушенным. В вечерней хронике уличных новостей нахохлупризывались все беды и напасти, а заодно и на всё её семейство с родней. Так оно и выходило – строго по бабушкиной концепции о том, что не родит худое дерево доброго плода, – внук у соседки пошел по кривой дорожке и угодил в тюрьму.
За хохлой жили Софроновы, с красивой дочкой Алкой и добродушным Володей, потом учитель пения Александр Васильевич Баранов, дальше шли соседи, в моем разумении ничем не проявившие себя, зато за ними жительствовал Мишка Шерстнев по кличке «Рыжий», инициатор и стратег огородных визирок, лихой баянист и будущий офицер. К числу добродетелей Мишки уличная братва причисляла уникальную способность высиживать в воде до двух часов кряду. Мишка нырял, доплывал до полощущих белье, снимал трусы и «фотографировал» тыльной частью изумленных баб, оставаясь в воде строго инкогнито. Одной из женщин это похабство надоело, и она оттянула пловца по ягодице вальком в момент «фотографирования». Мишка не дотянул до берега, где мы вповалку лежали от хохота, нахлебался, показывал красное пятно, а тетенька, озорно поглядывавшая в нашу сторону, где мы грелись у автомобильного баллона, говорила товаркам:
– Вон тот рыжий варначина и похабствовал, ломота ему в спину.
Так же, предполагалось, шло дело и в другую сторону улицы с чередованием соседей добрых и сердитых, умных и с придурью, старых и молодых, но уж, конечно, непохожих друг на друга и вполне незаменимых. Я долго не мог постигнуть детским пытливым умом таинственный феномен семьи Мухиных, умеющих проникать сквозь запертые двери и вытворявших непостижимые дела. Если мама сетовала на запропастившуюся сковородку, то папа, будучи не в духе, говорил, что её Мухины забрали, пришли, варнаки, и стибрили. «У Мухиных, наверное, – отдавала долги мама в счёт паспорта, который безуспешно искал отец, – пришли, забелынили куда-нибудь». На бедных дядю Петю с тетей Нюрой «свешивали всех собак», что заставляло меня пристально оглядывать соседей. «Ни собаков, ни кошков не висит», – докладывал я бабушкам про Мухиных. Видно, дело было в том, что дядя Петя был в войну «на броне», водил поезда, получал большие деньги – и люди завидовали. Ничего это не дает: старший сын Мухиных разбился на мотоцикле, а младший погиб, задохнувшись газами в гараже. И бедная тетя Нюра осталась под старость одна.
В дальнем конце улицы жили мои дядя Федя и тетя Нина, там был тоже островок освоенного мира, а центром его оставался бабушкин дом. Центром вселенной был родной угол, бабушкина русская печь с котом Василием, от неё, печи, полагалось плясать по жизни и ни от чего больше. Рядом с улицей Ленина, упорно называемой пожилыми Большой, шла улица Пушкина, в народе именуемая Озёрной, хотя из примыкавшего к ней озера, в котором раньше дремали караси, сделали коллектор заводских отбросов. Другие улицы, также имевшие раньше мотивированные названия, ныне носили имена далёких Луначарских, Розы Люксембург, 20 лет РККА, XX съезда КПСС и потому не манили посетить их.
Зато накрепко входили в память названия районов: Рогатка, Гамаюны, Тверская.
– По Пушкиной? – недоверчиво спрашивал человек чей-то адрес. – Так и скажи, что по Озёрной, не бредь.
Рогаткой назывался район потому, что в старину там находилась исправительная тюрьма, где человека за провинность складывали пополам и зажимали на некоторое время между двумя колодами. «За старое, за новое и за два года вперёд», – приговаривала бабушка. Сторонники же «передового учения», переиначившие названия улиц, толковали обозначение Рогатки как место, где эксплуататоры издевались над бедным рабочим классом вплоть до Октября. С этим «октябрем», который писали с большой буквы, выходила сплошная неразбериха. Ему, Октябрю, исполнялось то сорок лет, то на год больше, тогда как остальные месяцы оставались в прежней поре. У меня голова шла кругом от этой метафизики, но разгребать её своим умом я так и не решился.
Мир требовал освоения: подобно пространству, времени, я протаптывал дорожки познания в языке, в цвете, цифири, неуклюже формировал понятия, категории верха и низа, разрешённого и запрета. В этом мире могло меняться все, кроме родного угла в доме бабушки. Тут была точка отсчета всего. Судьба закидывала нязика на Кубу, прятала в подводной лодке, держала годами в Нью-Йорке, но и там, в дипломатическом аквариуме, он умудрялся поражать соотечественников диковинным произношением, о чём не без гордости сообщал потом, возвращаясь в автобусе домой. «Все дороги ведут в Нязепетровск, тут уж нищо не поделаешь», – стряхивая дорожную усталость, философствовали они.
Мир требовал освоения, любопытство – насыщения. Я узнавал, что дядя из Тверской собрался жениться, что ему в субботу играли свадьбу, и я, наблюдая сборы родителей, упросил их взять меня с собой. Свадьба разочаровала меня. Больше было разговоров, суеты, маневров со сковородками, пирогами и прочей возни. Застолье, поначалу благодушное и флегматичное, превратилось в обыкновенную пьянку. Я тщетно уговаривал отца и мать больше «не простениться», а идти домой.
– Погоди еще, чаю не попили, – уговаривали меня родители, да так и не укараулили чадо, отбывшее самостоятельно восвояси.
Я шёл в одиночестве по пустынным нязепетровским улицам, обнюхиваемый всеми собаками, но не тронутый «имя». Надо мной разверзлись небеса с роскошной симфонией звёзд, с искристой игрой их, тайным значением созвездий. «Выхожу один я на дорогу», – вдруг грянул во мне романс, не раз слышанный по радио, и страх и грусть исчезли под влиянием гармонии музыки сфер. Я уверенно шёл мимо сугробов, твёрдо держа курс на дом бабы Мани, и не смог бы заблудиться. Моя маленькая душа «чуяла» дом, центр вселенной, куда вели все нити, как связывают они меня с родиной и посейчас. В немыслимом лабиринте переулков и улочек я вышел на Тверской мост, с которого вниз было страшно смотреть и на котором сходились и «пластались» раньше тверские и гамаюнские гладиаторы и, говорят, сбрасывали вниз побеждённых, краем заводского забора вышел в центр и повернул на Большую, то есть улицу Ленина. Тут, на финишной прямой, когда душа, предчувствуя окончание пути, воспарила ввысь, и настигла меня погоня, снаряженная родителями и хозяевами дома, где играли свадьбу. Меня усадили в сани, отругали, – я бубнил, что «и сам бы досол», – и привезли домой.
«Чтобы я взялся когда-нибудь пировать, думал я, засыпая, – да ни в жисть».
Мир расширялся ещё больше, когда я узнавал, что «рядом» есть Свердловск, «вторая Москва», а следовательно, существовала и первая, откуда по проводам передавали речи и музыку.
— Должно быть, эта самая Москва шибко большая, – толковал я бабушкам, – аж досюда слышно, как в ней песни поют.
«Интересно, – приходило мне в голову, – а в Свердловске или Москве знают о нашем городишке или нет?»
Не знают. Как-то поехали мы в Нижние Серги к дяде Луче. Вагонные попутчики признавались, что «Князепетровск» они первый раз в жизни проезжают, никогда не были в нём. В другой раз, когда поехали в Свердловск, поразивший меня рассказами о страшных преступлениях в этом городе, я снова пережил разочарование – никто о моём городишке не слыхивал. У меня слёзы наворачивались на глаза от обиды за родной город – и, наверное, тогда в муках родилась мечта прославить его. «Чтобы во всех поездах знали, в Свердловске, Москве и по радио разок упомянули».
Что же такое сделать, «отмочить», как говорит дядя Петя, чтобы все кругом про Нязепетровск заговорили? Конечно, хотелось сделать что-нибудь доброе. Поневоле я начинал приглядываться к тому, что ведёт людей к хорошей славе. Славу знатных людей стяжало начальство – директор завода, секретарь горкома… Но секретарей часто меняли, так что бывший подлежал скоропалительному забвению, председатель горсовета переводился на хозяйственную работу, а директора больше «боялись», чем любили.
Не там искал я и не то! Когда хоронили врача М. М. Ефимова, то по длине толпы, шедшей за гробом, можно было ставить высшую оценку прожитой жизни. По величине ночных бдений на дежурствах, по количеству спасённых человеческих жизней. К самой доходной старухе, собравшейся умирать, он относился серьёзно, делал операцию – и та ещё семь лет жила и молилась за него.
«Вот бы за мной… столько народу шло, – возникала дерзкая мысль. – Но это потом, когда умрёшь. А при жизни что сделать, чтобы именитым стать?» Я приглядывался к отцовым друзьям, к городским знаменитостям и ничего особенно выдающегося в них не находил. Ну, не пьют. Больше других работают. Не воруют. Не матерщинничают. Но и я тоже могу. Работать на совесть на покосе. Не курить, не пить... не ругаться даже. Вот подрасту – может, и в начальство выдвинут…
Но что-то ещё надо было. Какие-то особенные таланты, чтобы просиять в земле своей. Это чуяла моя маленькая душа, тосковала по значительному. И не раз на сон грядущий я обещал себе, что сделаю всё, чтобы прославить наш городок.
В каждом городе, селе или деревне есть место, которое в хорошие минуты притягивает людей. Туда устремляются в праздничные дни посидеть за импровизированным столом, попеть под гармошку песни, отдохнуть от ежедневных забот. Туда ласковым майским вечером ведут своих подруг старшеклассники, чтобы в подобающей обстановке объясниться в любви. Таким местом в Нязепетровске является гора Шиханка.
С Шиханки виден весь город и его окрестности на десятки километров вокруг. Каждая из соседствующих гор имеет своё название, историю и душу.
Те крестьяне, что были куплены заводчиком Петром Осокиным в Твери, обосновали Тверскую, люди из Катайска – Катайскую. Горы требовали назвать себя, иначе человек, пошедший в Гамаюны, мог оказаться в Непряхиной или Тверской.
В Рогатке по-над прудом стояла раньше красавица-церковь. Церковь разрушили воинствующие безбожники, а на её месте стали делать посадочную площадку для вертолета – и бросили из-за опасной близости домов.
Чему же ещё стоять на том месте, отражаясь в спокойной утренней воде пруда, как не красавице-церкви? Не было на земле зданий красивей русских православных церквей!
Хотя горы были и тяжелы для подъёма, так было лучше, чем если бы ты родился и жил в равнинной местности. Зимой с гор можно было кататься на лыжах и санях, и что за чудные восторги мы переживали при спуске по логу у Маслопрома! Редко кто мог не упасть, докатиться до Нязи, где, бывало, встречь поднималась повозка – можно влететь в оглобли лошади. Сейчас уже не стало ни Маслопрома, ни лошади, а вот лог как был, так и ныне манит других прокатиться с ветерком. Высшим пилотажем, варварской забавой было в Нязепетровске катание с Шиханки на санях гурьбой в коробе. В оглобли на лыжи ставили самого ушлого паренька – и пёрли вниз. Положение того, кто впрягался в оглобли, было самым рискованным: это не то что в санях, в палубке, относительной безопасности. Однажды на оглобли такой повозки приспособили скелет из школьного кабинета биологии. Разлетелись под гору, не справились с управлением – и въехали старухе в окно. Скелет упал той к ногам.
– Вот ведь как разбился, – запричитала она, – аж косточки из тела вылетели!
Разнообразие местности порождало и разнообразие характеров.
Катайские считались простоватыми, неотёсанными, грубыми. Рогаточные жили ближе к центру, а значит, и раньше воспринимали передовые идеи.
В Рогатке же стали раньше, чем в других местах, строить казённые дома, там жили врачи, учителя и конторские. Пройдёт слесарь с завода по пути с учителем истории, потолкует о жизни – и, глядишь, ума наберётся. И уж назавтра в слесарке выскажет такие глубокие мысли, что твой профессор. Самыми же передовыми были станционные, подключенные к сквознякам, продувавшим страну. Там люди подпитывались информацией, сочившейся из уст пассажиров и распоряжений МПС. Гамаюнские были также народ просвещённый и умственный, неслучайно оттуда вышло в свет немало инженеров и учителей. А вот тверские были и так, и сяк. Их, как Россию, ставшую между Востоком и Западом, тёрло между мозговым центром Рогатки с Гамаюнами и «простодыростью» катайских. Тут на свет появлялись интересные популяции умных дураков и чудаковатых умников. Вдобавок тверские и катайские девки были расписными красавицами, и гамаюнских и рогаточных умников частенько заносило в катайскую глушь. Там, вкусив радостей кулачной битвы, – катайские были ребята сплошь драчливые, – они во временном умопомрачении добивались согласия у «захтепки» жениться на ней и награждали суженую несуществующими достоинствами. Конечно, потом, одумавшись, персонаж из Гамаюнов впадал в размышления, результатом которых была гениальная формулировка: «Не на той бабе женился». Говорили, мол, мужики, предупреждали. Говорили, только любовь зла. И добра также – смиряет всякого, даже того, которого и можно взять только любовью.
И оглядывая с Шиханки горы, овраги, площадь и дома, разбросанные по холмам, думаешь: где же у города душа? Может, реет она над Шиханкой? Или бдительно охраняет здание церкви в центре? Или пригрелась у скалы, где мы с дедом лавливали на камешках налимов? Каждый из нязепетровцев подпитывает эту общую душу городка, и без одного из нас она уже будет неполной.
|
Комментариев: |


 Седов Юрий (Фоос Юрий Фридрихович) родился 23 сентября 1937 года в селе Ново-Любино Омской области. С весны 1939 года до конца войны жил на Ямале (туда был сослан отец), с 1945 года с перерывами живет в Челябинске. В 1954 году окончилшколу № 47,в 1960 году - ЧПИ.
Седов Юрий (Фоос Юрий Фридрихович) родился 23 сентября 1937 года в селе Ново-Любино Омской области. С весны 1939 года до конца войны жил на Ямале (туда был сослан отец), с 1945 года с перерывами живет в Челябинске. В 1954 году окончилшколу № 47,в 1960 году - ЧПИ.
 Ирина Марковна Аргутина родилась 7 июля 1963 года. Поэт, автор семи поэтических сборников, член Союза писателей России (2003 ).
Ирина Марковна Аргутина родилась 7 июля 1963 года. Поэт, автор семи поэтических сборников, член Союза писателей России (2003 ).