(Поэт Сергей ГОНЧАРОВ)
 Строчка для заглавия взята из стихотворения его третьего сборника «НАС ЖДУТ ЭТАЖОМ ВЫШЕ», вышедшего, как и два предшествующих («ВХОДИ, СМОТРИ» 2009 г. и «Я ЗДЕСЬ ЖИВУ» 2009 г.), в издательстве «Российский писатель», но уже в 2012 году:
Строчка для заглавия взята из стихотворения его третьего сборника «НАС ЖДУТ ЭТАЖОМ ВЫШЕ», вышедшего, как и два предшествующих («ВХОДИ, СМОТРИ» 2009 г. и «Я ЗДЕСЬ ЖИВУ» 2009 г.), в издательстве «Российский писатель», но уже в 2012 году:
Хорошо бы успеть до заката
Так прожить, чтоб потом не жалеть.
Испытать всё, что было когда-то,
Свой куплет в этой песне пропеть.
Только много дорог на планете,
И не все из них в Рим приведут.
Очень жаль, если где-то в кювете
Вас однажды лежащим найдут.
Мы терпеть не умеем, и всё же
Слишком долго мы терпим порой
И, терпя, забываем, что может
Середина не быть золотой.
Меж землёю и небом повисли
И распяли себя под дождём,
И глядим мы в туманные выси,
И чего-то далёкого ждём.
Как о многом он здесь сказал – этот человек, рождённый поэтом в 70-м году. Сказал о себе, и о нас, и за нас. Но, к сожалению, во всех его сборниках читаем мы не сегодняшние его строчки, потому что суждено ему было прожить всего тридцать пять…
Но обо всём по порядку. Я узнал что он поэт, когда его уже не стало на этой земле. Хотя знал его с рождения. Точнее, как выразился однажды Бронислав Нушич, – с самой интимной части его биографии: с той поры, когда моя соседка по даче Людмила ещё носила его под сердцем.
Потом несколько лет подряд видел симпатичного малыша, играющего возле заборчика своего садового участка. Позже – не менее симпатичного подростка, юношу, молодого человека.
И поэтому, а ещё и оттого, что я – сверстник его родителей, для меня до сих пор непривычно произносить Сергей Гончаров, а привычно – Серёжка.
И хотя, как уже говорил, наши дачи находятся рядышком – через участок, и его дед Виктор Васильевич, сослуживец моего отца, часто к нам заходил поговорить с отцом и о работе, и порой, о войне – оба фронтовики, кроме того, что у него есть внук, больше я ничего о Серёжке не знал.
И узнал о его судьбе много лет спустя, случайно встретив в метро его отца Льва Ивановича, который и рассказал мне о сыне, к сожалению, уже в прошедшем времени. А ещё подарил мне небольшой сборничек Серёжкиных стихов «ДВА ДНЯ до ВЕСНЫ», который Лёва на свои деньги издал в 2007 г. уже посмертно в какой-то маленькой типографии, которых с начала 90-х развелось в стране, как грибов после летнего дождя.
В этой тоненькой книжечке, напоминающей школьную тетрадку, я увидел строчки, из которых сразу понял , что рядом со мной немало лет жил поэт. А я об этом и не подозревал. Не подозревал, что стоящий до сих пор в моих глазах сначала малыш, а потом подросток, юноша и молодой человек Серёжка мог написать, допустим, такие строчки:
Нас ждут этажом выше!
Но, Господи, ты ни при чём.
К Тебе мы не станем ближе,
Если туда пойдём.
Пойдём мы по шатким ступеням
И в новом доме услышим
Молчание, как откровенье:
«Нас ждут этажом выше!»
Ты никому не должен,
Ты можешь жить, неподвижен,
Но, если ты встанешь, всё же,
Нас ждут этажом выше.
И даже на самой крыше
Нас ждут этажом выше.
Пока человек дышит,
Нас ждут этажом выше!
Или так:
Самоуверенность ошибки
И фальшь красивого словца,
Перегоревшие улыбки
Сойдут со временем с лица.
Забудем старые обиды,
Успеем новые нажить.
Дай Бог, с судьбою будем квиты,
А нет – придётся повторить.
Всё, что прошло уже когда-то –
Поблекло быстро; на глазах
Забыты слёзы – виновато
Мы вспоминаем впопыхах,
Но до конца найти не можем
В осколках памяти своей,
Что было нам всего дороже
И где теряли мы друзей.
Не нужно быть большим знатоком поэзии, а нужно лишь её любить и чувствовать, чтобы уже по этим строчкам понять, что написал их поэт. Потому что есть там нечто, отличающее поэта от просто умеющего даже замечательно рифмовать человека. Это неуловимое нечто Марина Цветаева когда-то определила, как волшебство. Вот оно-то и выдавало здесь поэта.
***
Ну а дальше из рассказов Льва Ивановича и чтения сборников Сергея, которые отец продолжает издавать на свои средства уже в издательстве «Российский писатель», узнаю следующее. Стихи, что неудивительно, Серёжа писал с детства. Вот, например, одно из его ещё дошкольных стихотворений. Оно называется «Песня лётчика»:
Думаю, мечтаю – кем мне быть,
Как стране родной мне служить.
Год прошёл, второй – помужал,
Лётчиком военным стал, стал, стал.
Буду я летать и кружить,
Родину свою сторожить.
Ну, а если враг нападёт,
Самолёт мой первый в бой пойдёт.
А вот, написанное в одном из младших классов, под названием «Лётчик»:
Мельканье пуль, мельканье судеб.
Война – крушение идей,
А он спокоен: будь, что будет,
Летит над зеленью полей.
И, если надо, он погибнет,
Но лучше победить и жить,
Летать над Родиной великой,
Спокойствие её хранить…
На тему Великой Отечественной войны стихов у ребёнка немало. И это неудивительно. Оба деда знают ту войну не понаслышке, и мальчик жадно впитывает их рассказы. И, конечно же, мечтает стать защитником Родины. Что касается его стихотворчества, то, хоть ещё и неясно, будущий это поэт или нет, но, не правда ли, хочется и дальше что-то почитать. Читаем, написанное в одном из средних классов:
Вот треснула обшивка,
И дрогнула рука,
И мы ещё не знаем,
Кто попадёт в века.
И все тоской больны мы,
И все стоим в тени,
Покуда не завидим
Чужие корабли.
Покуда не раздастся
Над морем крик :«Земля!»,
Не заскрежещут скалы
Под носом корабля…
За мутной пеленою,
За волнами судьбы
Плывут, плывут к надежде
Людские корабли.
Плывут сквозь мрак и бурю,
Но краток грёзы миг,
И растворился в бездне
Судьбы печальный лик.
Конечно, в его детские и отроческие стихи напрашивается некоторая правка. Иначе в таком возрасте и не бывает, но согласитесь, во-первых, лишь некоторая, а во-вторых, ведь интересно. И с возрастом всё интересней и богаче по форме и мысли. Идёт явное развитие не только человеческое, что естественно, но и поэтическое, что уже показывает возможное предназначение этого юного человека.
А ещё четырнадцатилетний подросток напишет в своём дневнике: «Я всё больше убеждаюсь во внутренней силе человека, силе его чувств, силе счастья и печали, силе ума…».
И это уже результат его душевной работы и её направления.
***
Серёжа родился в Москве и большую часть своей недолгой жизни прожил на Кутузовском проспекте.
Когда окончил школу, в одном из стихотворений, названном «Месяц после школы», написал так:
Забылся я, и понемногу
Средь строчек снова мысль мелькнёт,
Что и без них меня гнетёт…
Пусть здесь и слог совсем не мой,
И смысл заложен без избытка –
Не подавись сухой строкой,
Пусть чтение не будет пыткой…
Но только толку нет в стихах –
Они не лучшее лекарство,
Они таят в себе коварство
И чувств неведомый размах…
Набор банальностей жестоких
В каком порядке получал,
Когда писал, какие строки,
И что в них истинным считал?
Но, впрочем, эти все детали
Неинтересны для других,
Как рассужденья о морали
В речах затёртых и сухих…
Хоть в том, что «здесь и слог совсем не мой», он прав, но это не мешает видеть его рост как поэта. Здесь уже можно говорить с большой долей вероятности, что любой «набор банальностей жестоких» может обретать в его строчках силу поэтических образов. Потому что этому юноше уже дано понять – стихи «таят в себе коварство и чувств неведомый размах».
***
После школы он поступил в МВТУ им. Баумана – один из самых престижных вузов Советского Союза, куда в ту пору был очень серьёзный конкурс. Может быть, выбор института определялся желанием стать, как один из его дедов (Иван Ильич – отец Льва) специалистом в области авиационной техники. Вспомним его, идущую из детства симпатию к лётчикам и самолётам. К тому же там есть военная кафедра, где студенты без отрыва на армейскую службу обучались военному делу, и после успешного прохождения специальных курсов по необходимому набору предметов им присваивалось звание младшего офицера. Однако, в восемьдесят восьмом году эту «бронь» в подобных вузах на несколько месяцев зачем-то отменили. И в июне Сергей был призван в армию, где оказался в одной из частей ПВО (противовоздушной обороны). Часть располагалась в пригороде Вильнюса.
Вот что он записал в дневнике: «…В части были нормальные отношения как внутри рядового состава, так и, как положено по уставу, между командованием и подчинёнными. Как и все, ходил в наряды на кухню, в караул, а также, на работы в автопарк. В свободное время писал письма своим знакомым, родным, и, если от происходящего в жизни было сильное впечатление, сочинял стихи. Первое стихотворение в армии написано как подражание популярной песне Макаревича: «…Я пью за тех, кто в сапогах, кто без сапог – тот сам напьётся…».
Следует заметить, что многие его стихи с юных лет будут звучать как песни, в основном бардовские, и в его собственном исполнении, и в исполнении его друзей-музыкантов. Но об этом позже. А пока – первое его армейское стихотворение, которое выглядит так:
Кто виноват, что ты устал,
Что недоел и недоспал,
Портянки плохо намотал,
Пришёл с зарядки и упал?
И чья вина, что день за днём
Кричит дневальный: «На подъём!»
И снится нам родимый дом,
Приказ, когда домой уйдём?..
Кто виноват, и в чём секрет,
Что есть тут старшина и «дед»,
И, проклиная белый свет,
Мы с мылом драим туалет?
И жизнь одна и так длинна,
И так скучна…
А ты всё ждёшь,
Когда же ты домой уйдёшь.
Думаю, те из его сверстников и не только сверстников, кто служил, полностью согласятся с тем, что здесь написано. А придирчивый стихотворный критик, если и найдёт, к чему придраться, всё же отметит, что написано талантливо.
Пишет он много. Видно, что не писать уже не может. Это давно уже потребность. Пишет разное. Например, такие коротенькие зарисовки армейской жизни:
Старшина мне мать родная,
Замполит – отец родной.
Не нужна родня такая –
Лучше буду сиротой.
***
Солдат часто теряет счастье,
Охраняя счастье других.
***
Никто меня так долго не обнимал, как ремень.
***
Кто не был, тот будет,
Кто был – не забудет
730 дней в сапогах.
А вот так он написал по вертикали определение слову «служба»:
С Л У Ж Б А
А У Р И Ы Р
М Ч О З Л М
Ы Ш К Н А И
М И О И Я
М М
Затем составил «Словарь солдата»:
СОЛДАТ – человек без паспорта;
ПОДЪЁМ – смерть на рассвете;
СОЛДАТ на ПОЛИТ.ЗАНЯТИХ – спящая красавица;
ДНЕВАЛЬНЫЙ – дерево, умирающее стоя;
СТАРШИНА – всадник без головы;
ДОКЛАД КОМБАТУ – репортаж с петлёй на шее;
ОТБОЙ – я люблю тебя жизнь;
ОТПУСК – десять дней, которые потрясли мир…
Ну и, конечно, постоянно идут стихотворные размышления, подобные этому:
Уходили мальчики в солдаты,
Уходили бывшие ребята –
Те, что школу кончили когда-то
И казались старыми себе.
Здесь старели парни раньше срока –
На войне хоть враг, а здесь морока:
Свой же бьёт бездумно и жестоко,
И больней от этого вдвойне.
Будто напророчил. Читаем его записи дальше: «В середине осени я попал с небольшим заболеванием в военный госпиталь в Вильнюсе и вскоре допустил ошибку, роковым образом повлиявшую на мою дальнейшую судьбу. Мне казалось, что больные в госпитальной одежде, как в бане, равны между собой. Здесь, как и до армии, я был весьма коммуникабелен, имея навык общения с людьми, приобретённый на радио в «Ровесниках», в Баумановском училище. По вечерам под гитару пел свои песни, стараясь скрасить товарищам по несчастью однообразие жизни.
Попавшим в госпиталь «старикам» такое свободное поведение не понравилось. По их понятиям, я не соблюдал негласную субординацию. Как-то утром в умывальной комнате они сбили меня на пол и ногами «подрихтовали», причём, при падении я здорово ударился головой о стену, покрытую облицовочными плитками. Потеряв сознание, пришёл в себя в реанимации через несколько часов…».
Дальше УЗИ показывает огромную внутричерепную гематому, приведшую к временному параличу. Госпитальное начальство перепугано и моментально выписывает присмиревших «бойцов» в их части. Мать, узнав о происшедшем, берёт отпуск за свой счёт, приезжает в Вильнюс и требует наказать виновных. А в госпитале, «желая избавиться от «тяжёлого во всех отношениях пациента» и якобы пытаясь обеспечить более квалифицированное лечение, меня отправляют в главный госпиталь Прибалтийского военного округа в Каунас. В результате различных медицинских манипуляций, я уже стал прихрамывая ходить.
Коллеги по медицине – они везде коллеги – послали меня подальше от Прибалтики в Одинцовский военный госпиталь Московского военного округа…».
Через некоторое время начальник местного отделения госпиталя открыто говорит, что врачи сделали всё, что могли, и теперь решение за пациентом. Можно вернуться в Вильнюс и добиваться справедливости, дослуживая в каком-нибудь подсобном хозяйстве, поскольку здоровье полностью не восстановилось. В этом случае у начальника отделения в госпитале Вильнюса будут неприятности, а ему через год идти на пенсию…
Есть другой путь. Можно здесь получить заключение о серьёзной внутричерепной травме, которое даёт право на экспертизу в психиатрической больнице Кащенко в Москве. А там, на основании данных такого заключения, наверняка придут к выводу о невозможности продолжать службу.
«…Желания возвращаться в Прибалтику не было и, оформив в госпитале отпуск, я поехал домой в Москву, на Кутузовку. Отпуск, несмотря на болезнь, прошёл насыщенно. Навещали многочисленные друзья…Но всё кончается, как и положенный отпуск… И вот такси идёт по Садовому. Я еду в Кащенко. Этим словом всё сказано… Ведь туда, в Кащенко попадают те, кто не хотят или не могут жить по предложенным обществом законам. Здесь – особая зона, без всякого романтического оттенка, придаваемого этому словосочетанию в приключенческих произведениях…Находясь в больнице, я начал делать записи в блокнотике…».
Эти записи идут в форме дневника, где встречается стихотворные рассуждения и зарисовки:
Одним не хватает смысла,
Другим не хватает слов.
Третьи просто живут,
И этот рецепт не нов.
***
Одни задают вопросы,
Другие ищут ответ,
Третьи платят взносы
И носят членский билет…
А ещё: «Перебираю в голове последние песни – все «в одной тональности» как многим кажется, «под Макаревича». Видать, крепко он в меня въелся. Я действительно взял у него тональность, хоть и не хотел, а главное – направление моих песен на внутренние ощущения, а не на факты, на общие рассуждения….
Понимаю, что в России два, пожалуй, действительно народных поэта – Есенин и Высоцкий. Сохранив необычайную глубину мысли, они не опустились до уровня массы, но и не возвысились над ней. Их песни начисто лишены интеллектуального высокомерия, они действительно служат людям, а не обслуживают. Может быть поэтому в них чувствуется та безнадёжная фатальность, которую мы называем судьбой. Там глубочайшие чувства, самая суть жизни, но всё это с оттенком неразрешимости боли. Эти песни можно слышать так, как пьют водку на Руси…».
Надеюсь, уважаемый читатель не забыл, что эти рассуждения принадлежат девятнадцатилетнему юноше. Многие ли взрослые литераторы могут ТАК сказать!? Ведь такая глубина приходит (и то единицам) в значительно более зрелые годы.
Конечно, хотелось бы узнать, почему в эти размышления Серёжа не включил стихи Николая Рубцова. Но как теперь спросишь.
И опять стихи. Да какой силы! Чувствуется, что за этот год он повзрослел на много лет:
Всё меньше дней, всё выше плата
За самый краткий миг любви,
И вся больничная палата
Кричит «Мгновение лови!»
Ловлю, а жизнь идёт на убыль –
Стоят утраты за спиной…
Но, холодея, шепчут губы:
«Люблю, люблю», – тебе одной.
И никакие жизни сроки
Не заслонят высокий миг;
Когда любви одной истоки
Мы честно делим на двоих.
И может, в этом, может, в этом
И суть, и соль счастливых дней…
Душа то вспыхнет ярким светом,
То что-то тихо гаснет в ней.
А дальше читаем: «Люди стали случайны и ненадёжны. Дело, конечно не в людях. Просто я не знаю, кем я буду завтра. Люди увлекают меня, но ненадолго и не слишком… Хватаюсь за кого-то, встречаюсь, потом надолго ухожу из поля зрения. Время стало фантомом. Но стихи приходят. Ещё и ещё…
И вот о состоянии безнадёжности, которое время от времени к нему приходит. Стихотворение так и называется «Безнадёжность»:
Когда для боли больше силы нет,
Садится безнадёжность на колени
И обнимает, шепчет горький бред,
И пьёт из губ бегущие мгновенья.
Она сегодня сказочно нежна,
И мучает как будто с неохотой,
Садится тихо в кресло у окна:
«Ну что же, если хочешь, поработай.
Пиши, что хочешь, жди, кого желал.
Бесплодны строчки, призрачны желанья.
Ты слишком много знал и мало знал.
И слишком часто хочешь оправданий».
На время я забуду о тебе.
Я в памяти с тобой встречаюсь редко,
Но знаешь ты, что на моей судьбе
Осталась навсегда твоя отметка.
Мне кажется, что мало кто из поэтов отказался бы от такого стихотворения. Читаем дальше:
…Поздно, бывает безмерно поздно –
И солнце поздно, и в дверь стук.
И слишком поздно ясно, что поздно –
Уже не найти для пожатий рук…
Но это к слову, я не об этом,
Всё это и так каждый знает,
И тему уже затаскали поэты,
Вернее, кто так себя называет…
И жалко, если открою нежданно,
Что время моё уже за кадром,
Но, может быть, мне пока ещё рано
Плакать о невозвратном.
Думаю, мы обратили внимание, как резко он повзрослел, и так же резко повзрослела его поэзия. Видимо, оттого, что пришёл он в этот мир с открытой душой, настроенной нести добро, но был встречен так жестоко.
На этом оканчиваются записи его больничного дневника. И дальше идут такие строчки: «В апреле я наконец-то уволился из армии по болезни. Я должен был отдать самое дорогое – часть моей жизни, и отдал. Ну вот и всё. Я долго искупал грех (только не знаю, какой, и грех ли это, может быть, это просто была судьба), но теперь я свободен. Я это сразу почувствовал.
И этот воздух, полный оттепели, и эти мокрые дороги, и ветер – всё было предчувствием свободы…».
***
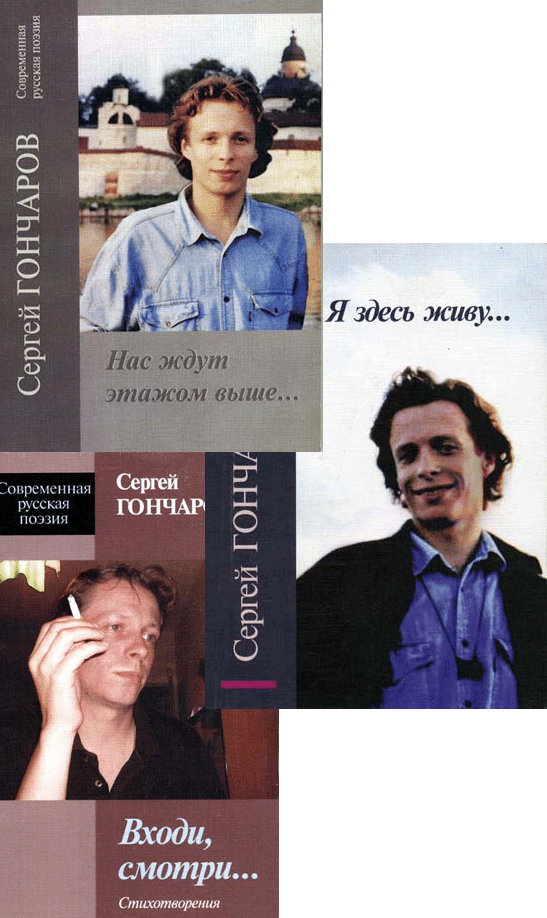 Но эта свобода стоила ему очень дорого, потому что: «Стала мучить эпилепсия, как результат травмы головы. Она настигает в самые неподходящие моменты, да я не знаю, бывают ли для этого моменты подходящее. Можно, конечно, гордиться тем, что попал в одну когорту с Достоевским, но для этого нужно так же хорошо излагать свои мысли, что не всегда получается. В отличие от обычных людей, я рождаюсь много раз – после каждого приступа. Какое-то время пытаюсь понять: где я и кто я. Пытаюсь вспомнить, что произошло и чем я занимался, когда провалился в бездну…».
Но эта свобода стоила ему очень дорого, потому что: «Стала мучить эпилепсия, как результат травмы головы. Она настигает в самые неподходящие моменты, да я не знаю, бывают ли для этого моменты подходящее. Можно, конечно, гордиться тем, что попал в одну когорту с Достоевским, но для этого нужно так же хорошо излагать свои мысли, что не всегда получается. В отличие от обычных людей, я рождаюсь много раз – после каждого приступа. Какое-то время пытаюсь понять: где я и кто я. Пытаюсь вспомнить, что произошло и чем я занимался, когда провалился в бездну…».
Вскоре после одного из таких «уходов» он напишет эссе, которое назовёт «Вкус жизни»: «Ну и что! Ещё одна смерть! Ещё одна пропасть…Сколько их прошло передо мной на моём, пожалуй, слишком долгом пути… (О «слишком долгом пути» пишет человек, которому нет ещё и тридцати. Но мы же помним, что «в отличие от обычных людей, я рождаюсь много раз». И видимо от этого «путь» этот кажется таким долгим). Если бы вы знали, как не хочется уходить, если бы вы знали, как трудно покидать мир. И когда ты вдруг вновь видишь перед собой лица людей, но эти лица тебе незнакомы, ты испытываешь страшную, жгучую боль в сердце. Нет, вы, люди никогда не испытывали такой боли. Вы – люди, и вам повезло. Только вам дано чувствовать вкус жизни, потому что вы живёте один раз. А я…я всего лишь бог, один из многих, и если бы вы знали, люди, как я завидую вам…».
Обратим внимание, что «бог» здесь у него – метафора, поэтому и с маленькой буквы. Позже он пояснит: «Да, я не Бог, и при очередном уходе могу и не вернуться оттуда… До «последнего ухода» хотелось бы успеть сделать что-то толковое в жизни».
И он сделал. За свои недолгие тридцать пять (как и у Гумилёва) успел сделать столько, что нам ещё долго предстоит его открывать и в песнях, и в стихах, и в его прозе, которой он, судя по стилю изложения в дневниках, был одарён не меньше чем талантом поэта. Несмотря на тяжёлый недуг, он, как видим, не сложил рук, а лишь очень ярко описывал свои ощущения, недоступные для простого смертного. И всегда был критичен к своим строчкам. Вспомним хотя бы приведённое чуть раньше: «…но для этого нужно также (как и Достоевский) хорошо излагать свои мысли, что не всегда получается…».
О его послеармейской жизни можно узнать из предисловия к той самой первой его книжечке «ДВА ДНЯ до ВЕСНЫ», похожей на школьную тетрадку, где известный журналист Ян Шенкман, с которым Серёжа дружил, пишет так: «… Я познакомился с Сергеем в 1988 году. И не думаю, что мы были какими-то особенными ребятами. Ходили по Арбату, вечером пели песни и на кухне читали стихи. Пили не очень дорогое вино, ухаживали за девушками…
К середине девяностых вся эта беспечная жизнь приобрела очертания легенды…С тало казаться, что всё главное, всё лучшее – в прошлом. Типичное романтическое разочарование. Но ведь мы и были романтиками….Вокруг Сергея всегда было много людей. Самых разных. Самых непредсказуемых. То ли он их притягивал, то ли они его. Сначала это была компания с радиостанции «Юность», совет «Ровесников». Потом музыканты и поэты из рок-кабаре Дидурова. Потом какие-то загадочные маги и колдуны. Потом настало время бизнеса. Юристов, бандитов, торговцев недвижимостью и приблудных авантюристов…
Ещё в восьмидесятых Сергей рассказал мне о своей мечте создать группу. Рок-группу…Это был бы очень странный ансамбль. Чтобы войти в него, вовсе необязательно было играть на каких-либо музыкальных инструментах. Группа представлялась ему своего рода крепостью, защитой от реальности, от чужих…Не удалось…
Я очень удивился, когда Сергей занялся бизнесом. Такой тонкий, интеллигентный человек, и вдруг… А ведь цель была той же. Какая разница, группа или фирма? Разве дело в словах? Разве люди занимаются бизнесом ради прибыли?..
Так и жил…, очень многое успевал, многим помог. А вот ему помочь было практически невозможно. Ни тогда, когда он болел, ни тогда, когда срывался, уставал от людей и начинал по-чёрному тосковать. Почти ничего из начатого Сергей закончить не мог. Это касается и творческих проектов, и деловых…Не припомню, чтобы видел его в состоянии умиротворения и самодовольства. Восхищался знакомыми, женщинами, музыкой и поездками по стране. А собой был хронически недоволен.
В частотном словаре Гребенщикова на одном из первых мест стоит загадочное выражение «что-то ещё». Это что-то искал Гончаров всю жизнь. Искал и не находил…».
***
А весной 2005 года он ехал на дачу. Но не доехал, трагически уйдя в мир иной. Потому и сейчас, когда говорим о нём, давайте немножко помолчим и послушаем его стихи, где он тоже «искал и не находил».
Можно быть и не быть.
Можно знать и не знать.
Можно всё позабыть
И сначала начать.
Можно выйти во двор,
И очнуться в норе,
Из июля – в промёрзшем
Насквозь ноябре.
Можно даже разбить
Ускользающий день,
Можно даже допить,
Если будет не лень.
Можно даже уснуть
И себя обмануть…
Но тебя не вернуть
И меня не вернуть.
***
К чему всё начинать сначала,
Что означает слово «ВСЁ»?
В опавших листьях перевалы,
Туман, что ветром унесён?
Горячность спора, вкус победы,
Забытый ветер в вымпелах,
В окне закаты и рассветы,
Приход весны в сырых дворах?
Шаги, подвластные надеждам,
Волненье моря, холод скал?
А, может, то, чего я прежде
В твоих словах не замечал?
***
С утра была весна, а к ночи – осень,
И ветер выметал весны следы.
Свинцовым чем-то наливалась просинь,
И город пил настой из темноты…
***
Мне мерили жизнь строчки,
Хоть часто я умолкал.
Хотелось мне жить очень.
Хотелось… И я искал.
Хотелось сказать, чтобы
Звенела души струна.
Пришлось мне вытерпеть много –
И много испить до дна.
И, если не сможет слово
Зажечь чей-нибудь взгляд,
Пусть эти стихи, как солома
Чистым огнём горят.
***
У каждого свой последний приют
И свой песок на зубах.
Ты выйдешь из дома на пару минут
И растворишься в веках…
Никто не увидит твоих следов,
Никто не вспомнит сказанных слов.
И в этом равен с тобой любой,
И каждый по-своему прав..
Может, в поисках этого загадочного «что-то ещё» и пришёл он к мысли, что «каждый по-своему прав». Но об этом мы уже не узнаем.
Хочется и дальше приводить его строчки – поэта, который во многом формировался как личность на том переломе в нашей стране, когда вдруг стали рушиться и нравственные традиции, и общественные устои. Поэта, который за свою недолгую жизнь так много сказал.
КАК сказал!
Но я думаю, лучше взять любой из его сборников и послушать Сергея самостоятельно, потому что каждый из нас слышит своё. А там есть, что услышать.
И ещё, думаю, нужно поблагодарить его отца Льва Гончарова за то, что сохранил и дарит нам строчки сына, публикуя их в издательстве «Российский писатель». А Николая Дорошенко – директора этого издательства за то, что оценил, подготовил и издал уже третий сборник этого поэта. И кроме того, написал о нём статью в газете «Российский писатель», познакомив читателей с новым именем в поэзии.
Ведь без строчек Сергея Гончарова современной русской поэзии чего-то бы существенно не доставало.
2012 г.
|
Комментариев: |