Произведения писателей из Ростова-на-Дону

 Татьяна АЛЕКСАНДРОВА-МИНЧАКОВА Татьяна АЛЕКСАНДРОВА-МИНЧАКОВА
ЖАБА И МОТЫЛЁК
Сказка
Большая, толстая жаба грелась на солнышке, сидя на камне у тихой, заболоченной заводи.Она вдоволь наелась мошек и теперь дремала, прикрыв глаза. Водная гладь была затянута зелёной ряской и крупными, резными листьями, среди которых кое-где выглядывали жёлтые кувшинки. Блаженная тишина наполняла всё вокруг.
Неожиданный свист пролетающей над заводью птицы разбудил жабу. Она огляделась вокруг, затем сыто, довольно улыбнулась и произнесла:
– Как хорошо,..благодать…красота…– зевнула и добавила.– Только скучно…
Её последние слова утонули в громких восклицаниях других жаб, которые устроились на берегу:
– Красота…благодать…блаженство…
И опять всё стихло. Жаба снова собралась подремать и тут увидела, как на жёлтую кувшинку, прилетел мотылёк, с узорчатыми крылышками. Он взмахивал ими, озаряя всё вокруг ярким сиянием, так, во всяком случае,показалось жабе.
– Какой красивый! – квакнула она.
Мотылёк вздрогнул от её громкого голоса и тут же собрался улететь.
– Нет, нет, не улетай, красавец – мотылёк! Сиди сколько хочешь на этой кувшинке. Я не сделаю тебе ничего плохого. Я буду просто любоваться тобой, а ты развеешь мою скуку – расскажешь о себе, о тех краях откуда ты прилетел…
Мотылёк покружился на кувшинке, демонстрируя свои резные, узорчатые крылья. Ему было приятно, что им кто-то любуется и восхищается, пусть это дажежаба.
– Я летел на большую, цветочную поляну. Устал. И решил здесь отдохнуть. Эта кувшинка очень симпатичная…
– Да, она мне тоже нравится, особенно её листья, они такие большие, на них можно плюхнуться и посидеть.
– Плюхнуться…Как ты грубо сказала, не плюхнуться, а присесть. Цветы и листья очень нежные, с ними надо обращаться осторожно, бережно…
– Тебе легко так рассуждать, ты такой изящный, лёгкий, а я…
Мотылёк оглядел неуклюжую, толстую жабу и подумал, что до изящества ейна самом деле далеко, но вслух сказал:
– Ты тоже, по-своему, хороша.
Жаба была в восторге – её похвалил такой красавец!
– Прекрасный мотылёк, оставайся здесь, не улетай! Все эти кувшинки будут твои! А я буду тебя оберегать. Никому не дам в обиду. Посмотри как здесь красиво и уютно.
– Здесь хорошо, но дорогая жаба, ты просто не видела цветочной поляны, на которой растут диковинные цветы. Вот там настоящая красота.
– Я очень сожалею, очаровательный мотылёк, что не видела твоей поляны.
– Так полетели со мной! Я покажу тебе её, – радостно предложил он.
– Я не умею летать.
– Но это не трудно. Тебе просто надо забраться вон на тот крутой берег, высоко подпрыгнуть и полететь…там внизу цветочная поляна. Ну, соглашайся, милая жаба, я буду тебя сопровождать.
Жаба задумалась. «Как нежно он меня называет «дорогая», «милая», она уже хотела крикнуть «Согласна, согласна…». Но тут другие жабы, громко заквакали:
– Красота здесь,красота здесь, не слушай его!
Мотылька испугал неожиданный шум. Он взмахнул крыльями и поднялся в воздух.
– Не улетай, прекрасный мотылёк! Не покидай меня! Ты разбил мне сердце. Я буду тосковать по тебе.
Мотылёк кружил над водоёмом.
– Что вы наделали, глупые! – чуть не плача причитала большая жаба.
– Зачем тебе эта разукрашенная козявка, – возмущались её подруги.
– Нет лучше болотного и зелёного цвета! Ну, ещё– жёлтого, хотя это уже излишество, – громче всех заключила одна из них.
– Вы ничего не понимаете. Потому, что не видели разноцветной цветочной поляны, – с обидой произнесла большая жаба.
– Но как ты туда доберёшься, ты не умеешь летать, у жаб нет крыльев!
– Но он же объяснил, что это очень просто…
– Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ну, попробуй!–смеялись её сородичи.
– Мотылёк, мотылёк, подожди меня…
Мотылёк услышал призыв и сел на камень рядом с жабой. Он взмахнул крыльями и слегка коснулся её.
– Если ты согласна увидеть цветочную поляну, надо спешить, пока не зашло солнце!
От нежного прикосновения его крылышек, жаба совсем потеряла голову.
– Да, да, – закивала она, – Поспешим!
И они тронулись в путь. Мотылёк летел, а жаба прыгала по берегу за ним. Берег становился всё круче, жаба с трудом взбиралась наверх. Она смотрела снизу на мотылька и любовалась им: «Как он красив в полёте! На фоне голубого неба его крылышки так трогательно трепещут…».
А мотылёк, поглядывая на неё сверху, думал: «Какая она всё-таки безобразная, медлительная, неуклюжая! И зачем я с ней связался. Меня же засмеют мои друзья на цветочной поляне…».
Когда они добрались до верха крутого берега, их взору открылась зелёная долина, густо усеянная разноцветными цветами.
– Ну, как тебе эта красота?! – спросил мотылёк.
– Красиво, – согласилась жаба.
– Видишь, сколько там цветов. Я больше всего люблю розовые, а когда они надоедают, лечу к голубым или жёлтым, или белым. Я не люблю однообразия – это скучно, как на твоём болоте. Согласна?
Жаба кивнула.
– Ну, что полетели?! Прыгай, как я тебе говорил!
Она медлила, со страхом глядя вниз.
– Ну, что же, ты?! Вперёд! Навстречу настоящей красоте…
Огромные, узорчатые крылышки лёгко подняли мотылька вверх.
И жаба решилась. Она высоко подпрыгнула, на мгновение задержалась в воздухе, пытаясь махать перепончатыми лапками, но, увы, тут же полетела вниз с крутого, скалистого берега, время от времени больно ударяясь о большие камни и, наконец, беспомощно распласталась в глубокой балке.
Мотылёк посмотрел вслед своей спутнице. «Какая неумёха!», – разочарованно сказал он. На цветочную поляну беспечный мотылёк улетел один.
Прошло несколько дней, прежде чем измученная жаба добралась до своего болота. Её встретили привычная тишина и спокойствие.
– Наконец-то, я дома, – с облегчением вздохнула она, – Лучше этого места не найти. Тут настоящая красота! И я не хочу больше никаких приключений! – громко объявила она.
– Правильно, правильно, здесь красота…и полное блаженство, – поддержали её другие жабы.
Большая жаба привычно уселась на свой камень и стала греться на солнышке. Через некоторое время она зевнула и произнесла:
– Только всё равно скучно… Очень скучно…
Вдруг, над заводью закружил мотылёк…его резные, лёгкие крылышки трепетали в воздухе.
– Он вспомнил обо мне и прилетел,.. – разволновалась жаба.– Эй, красавец… садись вот на эту кувшинку…
Но, увы, это был совсем другой мотылёк. И жабу он даже не заметил…
|
Людмила АНДРЕЕВА
К тебе
Ни с раскаяньем – на поклон...
Ни с опаскою – что прогонишь...
Лист осенний – как жалок он! –
Задремал на моей ладони.
Посмотри, сколько в нём тепла!
Как он лёгок, блаженно-чист!
Ты твердил, – не смогу. –
Смогла
Отогреть сиротливый лист.
Ты твердил: в листопаде – бред,
Одиночества не минуть...
Ошибался. – Я в ноябре
Не одна целых пять минут!
Скоро новый рубеж – зима,
И от осени даже снов
Не останется... Принимай
Лист, впитавший мою любовь!..
Сбой программы
Простужено слово (а раньше – звенело!)
Запутаны мысли, не могут струиться...
Бреду по ненастью – безмолвно, несмело…
Всплывают и меркнут случайные лица.
И кажется странною закономерность:
Сто… тысяча... призрачных, но не любимых. –
Ломаются смыслы в программе неверной...
А ты говорил, что мы Богом хранимы! |  |
Елена АРЕНТ
Научи меня, жизнь
Научи меня, жизнь,
слышать сердцем бессмертное слово,
среди пира чужого
себе не казаться чужой.
Научи принимать,
хоть оно выпадает не часто,
это нужное счастье –
к душе прикасаться душой.
Научи меня, жизнь,
я – до срока твоя ученица –
верить ветхим страницам
до сути зачитанных книг,
удивительных рек
берегам и крутым, и пологим,
бесконечной дороге,
и шансу, что так невелик.
Вдохновение
Смятением, ветром, ливнем
на бумаге проступит голос –
мятежной строкой нахлынет,
зазвучит одиноким соло...
Затеряется меж листами,
на тихом, уютном ложе;
для слуха прозрачным станет –
голос сбивчивый и усталый,
со штормом иссякшим схожий...
Качели
А мы взрослели незаметно
и, страхи первые спугнув,
влюблённые, взмывали к свету,
лишь оттолкнувшись от планеты
и руки ветру распахнув.
Степеннее с годами стали,
но в приземлённой суете
уже забудется едва ли,
как нас качели окрыляли
и приближали к высоте.
|  |
|  Ксения БАШТОВАЯ Ксения БАШТОВАЯ
ФЕДЬКА
(быличка)
Жил у нас на Верхних Выселках мужик один, Федькой Рыковским звали. От кого его мать, Таська Рыковская, в подоле принесла, леший знает. Мужа у нее не было, не зналась в деревне ни с кем, а вот гляди ж ты...
Байстрюку этому, надо сказать, с самого начала не повезло. Акушера у нас о ту пору еще не было, Малашка, баба повивальная, в ночь, когда мальчишка народился, хорошо под хмельком была. И то ли она плохо потянула, то ли еще что, но лицо у мальца так и осталось перекошенным. А со временем еще и левая рука да правая нога сухонькими стали. Так и ковылял он на костыле.
Так и вырос у Таськи сын нелюдимым да мрачным. До сорока лет дожил, а его все Федькой так и кликали. В колхозе у нас ровесников его много было, те все по имени-отчеству, Василь-Петрович, там, Сан-Палыч, а он как был Федькой, так и остался. Бобылем был, в колхоз вступать не захотел. Мол, как я, калека — да ваши трудодни потяну? Да понятно было, что лентяй он просто. Вон, дед-Михею ногу на немецкой войне в шестнадцатом году оторвало и ничего, бодреньким бегал, а этот... Даже молодуха за него никакая не пошла, так и остался он в одиночестве, Федька н-тот, Рыковский, значит.
А там глядишь, и война началась. Ты — молодая, не знаешь уже, небось, с тех пор и ничего, семьдесят лет как-никак с победы прошло...
Немец на нас тогда пошел. Мужики все воевать ушли. Бабы, дети да старики только в Верхних Выселках остались. Ну и Федька Рыковский. Не взяли его в Красную Армию, калеку-то. Да он-то и сам, небось, не хотел...
Немец о ту пору, в сорок первом году, злобствовал. Колхоз спалили, скот забрали, есть нечего было... А до этого самолеты, еропланы енти, бомбами все Верхние Выселки забросали...
Староста, дед-Михей, он у нас настоящим коммунистом был, идейным. В колхоз первым пошел, корову свою ледащую сразу привел... Его первым немцы и расстреляли. Мол, партизанов привечаешь. А откуда у нас, в Верхних Выселках, партизаны?
К исходу второго месяца деревня вся в леса ушла. Скота ни у кого не осталось, все немец забрал... Вот-та и сбежали как-то ночью в леса... И Федька ушел, со всеми вместе. Калека — калекой, а на костыле своем спереди всех ковылял.
Не любили его в деревне, жуть. Сам не поможет никому, скажешь ему что-нибудь, а он все молчит, да из-под бровей зыркает.
Землянки там понарыли, как-то зиму протянули... Страх был, словами не передать! Стреляют со всех сторон, сверху еропланы — самолеты енти, бомбами кидаются, жуть!
А потом, по первому снегу пара дней затишья выдалось. Бои ж недалеко шли, подле деревни оставленной, вот пара мальчонок, Мишка да Колька Федотовы и решили дотуда податься, может найти что-нить хорошее. А почто за ними Федька Рыковыский поковылял, одному богу известно.
Дети-то что, война рядом прошла, а любопытство осталось. Набрели они на поляну какую-то, смотрят, а там фриц мертвый, та они к нему — нож у него красивый был в руках, ладный, с рукоятью черной. Они на нож тот да и засмотрелись. А потом из них кто-то гранату и нашел.
Они-то дети глупые, несмышленые, они знать не знали, что там нашли, не понимали... Увидели вещь интересную, да и начали в руках крутить, рассматривать...
Тут бы Федьке смолчать, мальцов от находки отвлечь, они б спокойно положили на землю да дальше пошли, а он не сдержался, гаркнул на них, мол, что ж вы творите, пострелята?! А те, как его увидели, да как испугались, так находку свою и выронили.
Калекой он был, Федька. Рука да нога у него сухие были, на костыле он все ковылял, бегать не мог... Только и успел, что малят тех оттолкнуть да гранату своим телом накрыть...
...Мишка после войны, как подрос, в колхозе нашем директором был. Колька Федотов, тот важной птицей стал, в Москву уехал...
А Федьке Рыковскому даже камня надгробного не поставили... |
|
 Алексей Глазунов Алексей Глазунов
ЗАВОДЬ
1
В поселке Приманычье жили механик Иваныч и тракторист Вовчик. На днях им исполнилось по пятьдесят восемь лет. Но они были совершенно разными людьми, как по внешности, как по характеру, так и по образу жизни.
Иваныч — коренастый, с выпирающим животом и лысеющей головой, аккуратно одетый, знающий, что ему надо от жизни, уравновешенный, примерный семьянин.
Вовчик — маленького роста, худой, с взлохмаченными седеющими волосами, бреющийся раз в неделю, в помятом костюмчике на все случаи жизни. Со взрывным характером, невезучий. Бобыль.
С юных лет судьба вела их по жизни рядом, и с юных лет между ними пробегала драной кошкой гадливая неприязнь. А при встречах они всегда были «на взводе», как пистолеты дуэлянтов.
В молодые годы Вовчик был влюблен в девушку Дашу, статную, кареглазую, с длинной черной косой. Назначили свадьбу. Но, приехав после курсов трактористов, с ужасом узнал, что красавицу Дашу увел молодой специалист, механик Иваныч.
Вовчик сильно переживал, ходил, как в воду опущенный. Его терзали сомнения: может быть, Даша действительно полюбила механика, и ему не годится стоять у них на пути? И он мужественно напевал до боли понятную песню:
Уйду с дороги — таков закон,
Третий должен уйти...
Но вдруг, будто от вспышки молнии, он ясно осознал, что его бесцеремонно надули, оставили с носом, на него просто-напросто плюнули. Он почувствовал себя маленьким, жалким и лишним. И яростно, с остервенением запел уже другой шлягер:
Я не третий, я не лишний,
Это только показалось!
И устроил грандиозный скандал, принародно поклявшись, что утопит Иваныча в Маныче!
Прошли годы, затянулись душевные раны, но Вовчик так и остался холостяком. Правда, в сорок лет он сходился с одной женщиной, коротко стриженной, высокой и крепкой, похожей на длинную сучковатую палку. Но она оказалась занудливой и сварливой бабенкой. Не разрешала Вовчику смотреть по телевизору балет и устраивала сцены ревности, если замечала, что Вовчик поглядывает на свою старую любовь Дашу.
От упреков ревнивицы Вовчик «отбивался», оправдываясь: «Кто старое помянет, тому глаз вон...». «Так значит мне глаз вон?!» — возмущалась сожительница, глядя на Вовчика сверху вниз. «Пословица такая...» — объяснял он. «Карантух ты после этого, олух царя небесного! И похож ты на этого... ну, как его?., ну, на того, которого ты, болван, любишь... На Чарли Чаплина!» «Ты меня не зли!» — грозился Вовчик. Протянув год волынку, он ушел от своенравной особы, несумевшей разжечь семейный очаг. «Стриженная баба косы не запле-тёть!» — изрек он.
А Иваныч, прожив с Дашей долгую семейную жизнь, всё же не забывал грозное обещание Вовчика и держал в отношениях с ним расстояние: мало ли что, тот мог «выкинуть». Но жизнь по-прежнему их сводила и даже сталкивала. У Вовчика на тракторе, то колесо отвалится, то двигатель застучит, то солярка в неподходящий момент закончится. Механик задавал резонный вопрос: «В чём дело?» «Не везет...» — отвечал Вовчик. «Ты знаешь, кому с детства не везет? — поучал Иваныч. — Разгильдяям!»
Вовчик «взрывался»: «Ты меня не зли!» И Иваныч притихал.
И все-таки, одно их всё же объединяло — это рыбалка! И ездили они на одно и то же рыбное место, в уютную Манычскую заводь. Иваныч — на мурлыкающей «Таврии», Вовчик — на чихающем мопеде.
2
Едва над селом стихла рассветная песнь петухов, и звезды начали таять на раскаляющейся солнечной жаровне, Вовчик нацепил на спину рюкзак, укрепил на мопеде два удилища, выструганных из вишнёвых побегов и выехал на улицу. Воскресное раннее утро подняло на ноги и сельских мальчишек. На велосипедах они катили на рыбалку, обгоняя с перебоями работающий мопед и крича: «Вовчик, давай, давай!» Пятилетний мальчуган Васька, устроившись на заднем сидении братового «велика», радостно вторил: «Вовцик, Вовцик!»
Разогревшийся бензиновый аппарат Вовчика вынес его за село и попер вдоль абрикосовых и акациевых лесополос к желанной реке. Вовчик удовлетворенно отметил: «Ух, так и рвется с поводка!»
Свежесть летнего утра бодрила и поднимала настроение. От предвкушения азартного лова приятно трепетало сердце и хотелось побыстрей увидеть заманчивую гладь реки, приветливые заросли камышей и уютныйпрогал с деревянным настилом, входящим в воду.
За спиной послышался гул приближающегося легкового автомобиля. Красного цвета «Таврия» обогнала Вовчика, окутала его удушливой пылью и согнала в кювет. Мопед «чихнул», выстрелил и заглох. Наездник чертыхнулся, обозвал Иваныча последними словами и попытался завести мопед. Но безуспешно.
Вовчик стоял, как витязь на распутье, теперь у него было два пути: первый — катить пять километров свой «чермет» к реке и быть с рыбой, может быть; второй — возвращаться домой и лишиться всех удовольствий рыбалки.
— Ну, ты меня разозлил, Иваныч, — выговорил в сердцах Вовчик. — Утоплю, точно утоплю!
...Иваныч блаженно сидел в резиновой лодке среди камышей и дирижировал удочками. Рядом спокойно плавал одинокий лебедь.
— Природа... — многозначительно проговорил Иваныч, вдыхая утренний чистый воздух. В садке у него уже «кое-что» плескалось.
Часов в десять на берегу появился трактор «Беларусь». Остановившись на пригорке, заглох. Из кабины трактора вылетели рюкзак, два удилища и показался седовласый тракторист.
Иваныч оставил рыбную ловлю и выплыл на берег.
— Ты что ж это на государственной технике раскатываешь? — выговаривал он Вовчику, — поворачивай назад!
— Ты меня не зли! Твое дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Иваныч осознал бесполезность назиданий и пошел вдоль
берега поразмяться. На обратном пути он увидел, как из прибрежных камышей летели пух и перья. Иваныч, раздвинув зеленые заросли, увидел Вовчика, который, как лис в курятнике, озираясь, потрошил лебедя.
— Да что ж ты делаешь?! Вот сообщу куда следует, — возмутился Иваныч.
— А шо? Смотрю возле камыша, вроде как пена, ближе -лебедь. Уже не живой. Може, он от тоски помер? У них же как... Ты знаешь шо такое тоска? Ну да, откуда тебе знать... Так вот, а добру шо, пропадать?
Поджарив на костре птицу, Вовчик принес кусок мяса Иванычу:
— На, Иваныч, попробуй. Цари ели!
Иваныч мялся, глядя на постное темное мясо, потом всё же взял и откусил. Прожевав, сказал:
— Птица красивая, а мясо дрянь!
...Вовчик сидел на деревянном настиле, разложив удочки и уставившись на поплавки. На воде тишь. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала. И ни малейшего дуновения ветерка. Лишь в овраге, выходящем к реке, сквознячок шевелил терновник. Будто залег там лежебока — ветер и не хотел выбираться на жару, хоть бери палку и иди выгоняй его, чтобы дышать легче.
К Вовчикову прогалу легко скользила лодка-плоскодонка. Она с разбега гулко уткнулась носом в глиняный берег и тревожно вскрикнула заржавевшими уключинами. Из лодки выпрыгнул молодой парень лет двадцати трех, Витька Жила, рыбачивший сетями. Вовчик недовольно покосился на него, на его забродские сапоги с прилипшей крупной чешуей и раздраженно пробурчал: «Кто-то пытается поймать своё счастье на удочку, а кто-то загребает сетями...»
— Что, дед, рыба прет? — бодро спросил парень.
— А как же, и в основном — один карп.
— А живем как?
— Живем, как раки в мешке, которые на шо-то ещё надеются, — ответил удочник. — Давай-ка лучше закурим.
— А давай лучше выпьем.
Вовчик достал початую бутылку водки. Встряхнул раскладной пластмассовый стаканчик и налил Витьке.
Выпив, Витька спросил:
— А закусить?
— Може тебе еще и девку?
Но все же отломил кусок жареной дичи. Вовчик налил себе.
— Ну, шоб я жив был, — будто помолясь, прошептал он и сильно запрокинул голову назад, держа у обветренных губ заветный походный стаканчик.
По голубому небу высоко-высоко летел маленький блестящий самолет, оставляя белопенный след.
— А я так ни разу и не летал на самолете, — грустно проговорил Вовчик. — Интересно, как там в небе? Вот, когда опрокидываешь стопку, тогда только на небо и глянешь. А так — тычешься рылом в землю...
— Дед, и что тебе дает эта рыбалка?
— Как бы тебе понятнее объяснить?.. Ну, это все равно, что женщину держать за бедра.
— Ух, ты!.. Хорошо сказал. Дед, а вот интересно, ты знаешь, что значит настоящая женщина?
— Да откуда мне? Такой знаток у нас — один ты. Дай лучше закурить. Вовчик закурил предложенную Витькой сигарету с фильтром.
— Не люблю я эти — с фильтром, — проговорил Вовчик, довольно попыхивая дымком. И, будто продолжая прерванный рассказ, душевно заговорил. — ... А как же! Была у меня Зиночка-карлица...
— Да ты что, дед? И ты решился с такой?
— А что? Ты знаешь, как на бахче арбузы собирают? То-то же! Сначала выбирают огромные и ровные, потом — не такие уж и большие, но ровные. Опосля совсем перестают их собирать. «Бросают» бахчу. А арбузы-то ещё остались. Правда, маленькие, корявые, а есть можно. Внутри-то они сочные, сладкие, не хуже тех огромных и ровных: откусишь — ещё хочется! Вот так и с Зиночкой моей, карлицей. А душа у неё — не сыщешь такой другой!
В соседнем камышовом прогале что-то с шумом сильно и тяжело ухнуло в воду.
— Неужели Иваныч сома подцепил? — с затаенной завистью выговорил Вовчик.
За камышом раздавались бурные всплески и зычные выкрики Иваныча: «О-о-ох!А-а-а! Э-э-э!»
— Купается, чишо? Отак всегда: кто-то купается, а на кого-то брызги летять!
— А по-моему, дед, он тонет. Повезло тебе: не надо прикладывать свои руки, — усмехнулся Витька, знавший, что Вовчик давно точит зубы на Иваныча, и каким-то образом его хочет «куснуть».
Вовчик насторожился. Прислушался. И, вскочив, как ужаленный, ринулся к соседнему прогалу.
На воде метрах в пятидесяти колыхалась пустая резиновая лодка. У камышей расходились большие круги. Вдруг над поверхностью воды показалась голова Иваныча и, выкрикнув: «Фуф! А-а-ап!», исчезла. «Тонет. Ей-богу, тонет!» — с ужасом убедился Вовчик. Сердце его беспокойно задергалось, будто поплавок на волнах, и вдруг ухнуло куда-то вниз, заставив похолодеть все тело. Вовчик судорожно стал срывать с себя рубашку и стаскивать брюки. Второпях, запутавшись в штанине и прыгая на одной ноге, он не удержал равновесие и неуклюже рухнул на землю, вымазавшись в прибрежном иле. Вскочив, с разбега плюхнулся в воду с одной бешено пульсирующей мыслью: «Надо успеть. Успеть спасти!»
А как Иваныч оказался в воде?
... Иваныч сидел в лодке, в тени камышей и наблюдал за поплавками. На душе у него, как на воде — тишь да гладь, ещё бы, в садке бурлили два пузатых, икряных метиса, три больших золотистых карпа и один чуть поменьше — зеркальный. Вдруг поплавок улегся набок. «Эге! Подошел-подошел. Счас мы тебя, родименького...», — зашептал Иваныч, напружинившись. Поплавок дернулся, рыбак с силой взметнул удочку. Но крючок зацепился за камыш где-то у дна. «Эх! Ранова-а-то... И с крючком теперь морока...» — расстроился Иваныч. Жалко было рвать снасти, и рыбак, сняв одежду, бултыхнулся в воду.
Отцепить крючок сразу не удалось, пришлось нырять несколько раз.
Когда в очередной раз он вынырнул, исторгнув: «Фуф!», то увидел Вовчика стремительно плывущего к нему с перекошенным злобой лицом и безумным взглядом. Иваныч моментально вспомнил грозное обещание Вовчика. «И надо же, подгадал-то как! — заметался он. — Вот гадство! Говорил же себе: смени место, место смени!» И вновь нырнул, но уже не за крючком, а чтобы скрыться от разъяренного злодея. Но руки Вовчика уже хватали его за голову, за шею, за туловище и изо всех сил куда-то тащили. Иваныч отчаянно отбрыкивался и, показавшись над водой, истошно завопил:
— Спаси-и-те-е!!!
«Вот бедолага»... — сочувственно подумал Вовчик, глядя на страдальческое лицо «утопающего».
— Щас... щас я тебя... — хрипло проговорил он, отплевываясь. И вновь протянул руки.
Иваныч, что было мочи, бухнул кулаком спасителя по лбу. Вовчик, отрезвев от удара, начал соображать:
— Гля! Утопленник, а дерется. Ты шо, разве не тонешь?
— Какой...!
— Вот те на...
И два рыболова, тяжело дыша, поплыли к берегу.
Иваныч сидел на траве и надсадно откашливался. Вовчик стоял рядом. У него было такое выражение лица, будто проглотил муху. Он пытался сгладить казус и виновато толковал:
— Нушо ты поделаешь, Иваныч? Салам алейкум, как говорят французы.
— И-идиот!
— Иваныч, може давай выпьем? У меня кое-что осталось.
— Да пошел ты!..
Витька Жила, наблюдавший сцену «спасение утопающего», со смешком протянул: «Ну и дела-а...». И, запрыгнув в лодку, поплыл проверять сети.
3
Солнце, разбежавшись по небосклону, нырнуло в реку, забрызгав оранжевыми лучами небесную синь и прибрежную зелень. Рыба перестала клевать, назойливо зазвенели комары.
Вовчик, собрав удочки, приподнял садок — один золотистый карп размером до локтя тыкался мордой в сетку и плавно поводил хвостом. «Не густо, очень даже», — буркнул рыбак. Затем налил в стаканчик водку и со словами: «шоб я жив был», — залпом выпил, занюхав приятно пахнущей полынью. Взглянул на огромный раскидистый дуб, росший на бугре. «Ух, какая мощь! Небось тыщу лет живет, — с восторгом подумал Вовчик. — Взобраться бы на него, приютиться в укромном местечке и прожить бы веков эдак несколько, може — тогда и стал бы разбираться в жизни. А так никаких озарений, сплошное чирканье спичек...»
Сидевшая на суку ворона неожиданно каркнула. Вовчик, вздрогнув, смачно выругался:
— Кша, проклятая! Тьфу-тьфу-тьфу.
На реке, на мели, среди редкого чакана настраивали голоса перед «концертом» лягуры. Здоровенный шкрен размером в два кулака, с жемчужным пузом, раздувая щеки, картаво выводил трели:
— Круа-круа-круа! Цкве-е-е-е! Ца-ца-ца-ца! Цр-р-р-р! Круа-круа
Вовчик недовольно зыркнул на солиста.
— Вот гад, соловьем заливается. Балдеет собака. Жизнью наслаждается. Всякая тварь, а человеком себя хочет почувствовать. И живут же разные... И небось неплохо живут в своем болотном государстве?
Шкрен замолчал и, выпучив зенки на Вовчика, разочарованно провибрировал:
— Му-ки-ки-ки нет!
— Чиво-чиво? — обалделВовчик.
— Му-ки-ки-ки, — повторил шкрен.
— Бррр! — мотнул головой теперь уже Вовчик. — Небось хватил лишку. Пора собираться домой.
Он взобрался на пригорок, подошел к трактору и, похлопав по капоту, сказал: «Шо, коняка, заждался?» Устроившись на сиденье, выжал муфту и «Беларусь», набирая скорость, с грохотом покатился по склону к реке. С перебоями фырча, он не желал заводиться. Вовчик включил «пониженную», надеясь, что трактор все же «оживет» за десять метров до обрывистого берега. «А шо? Летчики вон, перед самой землей из крутого пике выходили».
Тем временем Иваныч вплавь добрался до надувной лодки, выловил удочки и уже загребал веслами к берегу, как вдруг услышал такое ужасающее грохотанье, что даже содрогнулся. Казалось, с небес неслась сама божья колесница, потом эта «небесная» техника бомбой рухнула в воду. И воцарилась звенящая тишина.
— Опять этот, мешком ударенный, вляпался... — выругался Иваныч.
Среди камышей стоял трактор, по кабину погруженный в воду. Вовчик с шумом и треском пробивался сквозь прибрежные заросли к берегу. Иваныч громко прокричал с лодки:
— Что скажешь, «опять не повезло»?
— Иваныч, вот выйдем мы на пенсию, на кого ты будешь орать? — спокойно рассуждал Вовчик, — а на пенсии, как в бане — все равны.
— Ты не рассусоливай, шуруй на зерноток за гусеничным и чтобы утром был в строю.
— Подвез бы — туда аж три кэмэ. А я, кажись, маленько шибанулся.
— А это не мои проблемы.
— Иваныч, и тебе меня не жалко?
— Жалко. Всех жалко. Но себя жальче.
... Вовчик шел вдоль берега, то спускаясь в балку, то поднимаясь на бугор. На вечерней небесной глади уже всплескивались серебряные звездочки и любовались своим отражением в реке. Некоторые из них ныряли в воду. Вовчик остановился у края обрывистого берега, посмотрел на речку, на небо.
— Ух, как расплескались! — удивленно проговорил он и мечтательно добавил:
— Взлететь бы к ним, да оглядеть всю землю…
Неожиданно кольнуло сердце. Сразу он и не понял: то ли падал вниз, то ли взлетал вверх. Наверное, все же взлетал, потому что с неимоверной быстротой приближались вечно манящие звезды...
|
Маргарита ГРИГОРЬЕВА
Одна
Окно –
Открыто.
Вино
Допито –
До дна.
Довольно.
Хмельно…
И вольно! –
Одна…
Не больно…
Расставание
Раздражает штор
Вычурный узор…
Оборвём, как нить,
Трудный разговор!
Догорит свеча
И остынет чай…
Незачем любить,
Не за что прощать. | |
Леонид ДЬЯКОВ
Сохрани
Родина печальная моя...
Над тобой дожди – как будто слёзы.
А в саду белеют две берёзы –
То моя любимая и я.
Родина счастливая моя!
За калиткой ерик, мостик, лодка.
Между вишен хата, как сиротка,
Ждёт, когда домой приеду я...
Всё на месте – речка и камыш.
Синь лежит до займищ Зеленькова.
Запах мяты, тмина лугового,
И роса блестит на плешах крыш.
Ничего особенного нет.
Но смотрю в речную даль с порога –
И прошу забытого мной Бога
Сохранить нетленным этот свет...
Вдохновенная природа
Отбунтовала за ночь непогода
И улеглась в долине на покой.
А утром вдохновенная природа
Ждала светило с песней вековой...
И ничего от бури не осталось,
И день зачался весел и высок.
И верба, как девчонка, улыбалась,
Роняя капли солнца на песок.
Я шёл к реке тропинкой одичалой
И сознавал всё глубже и сильней,
Что я в душе ничем не отличаюсь
От этих трав, и верб, и тополей...
Нам любо жить на этом белом свете,
У нас одни тревоги и мечты:
Чтоб никогда злодей угрюмый ветер
Не отнял нашей дивной красоты.
Года летят, что кони вороные,
В сквозных лучах недремлющих светил...
Хочу, чтоб каждый человек отныне
С любовью к нам на землю приходил!
***
В полыхании лета,
В тишине синевы
Слышу музыку света
И дождя, и травы.
За рекой – косовица,
Мать
И маленький я…
Если это мне снится,
Не будите меня. |  |
Ирина ДЬЯЧЕНКО
Чёрно-белый кадр
Рассеянно смотрю в окно. –
Дым сигареты…
Свет неброский…
Как на бумаге папиросной,
Кадр чёрно-белого кино.
Рисую пальцем на стекле…
«Люблю…», – неслышно выдыхаю.
Всё просто: мы «не совпадаем»,
И это так понятно мне.
Душа притихшая больна,
Ей исцеленьем – хлопья снега.
В ладони зачерпнуть бы неба
И выдохнуть легко: «Зима!..»
Но день ползёт улиткой вверх,
Когда тебя я жду напрасно,
А небо смотрит безучастно
Глазами облачных прорех....
Прикосновение
Я выберу флакон из тёмного стекла
И буду в нём хранить свет тонких линий,
Которые связали нас отныне –
Как тайный оберег от холода и зла.
И если приоткрыть сосуд заветный вдруг,
Почувствуешь прикосновенье солнца;
Как тихо свет в окно родное льётся,
И обнимает ноги – разнотравьем – луг.
Так просто танцевать, на полупальцы встав;
Так музыка внутри у нас похожа,
Что совпадает ритм, и всё итожа,
Объятия сплетает в страстный – жаркий – сплав.
И наполняется текучесть слов, минут
Мечтой, закатным пламенем багряным
И запахом твоих волос, чуть пряным,
Когда снега на землю сонную идут… | |
 Ирина КОРОТЕЕВА Ирина КОРОТЕЕВА
ПРО ЛЮБОВЬ
Казачки по природе своей бабы сильные, но тут кто выдюжит-то? Всю войну без мужиков «пробатрачили», только и держались на том, что верили: вот вернутся родненькие и пойдёт всё по-прежнему. Бывало, летним вечером, наломавшись за день, собирались солдатки вместе, и, вдыхая запах бушующих за околицей лугов, потихоньку гутарили о «своих», о том, как жили они до войны, как будут после неё, проклятой.
Пришла Победа, и на Дон стали возвращаться победители. Из хутора на войну уходили пятьдесят мужиков, а вернулись двое безногих, да четверо здоровых. Ещё остались на хуторе несколько ветхих дедов, да бегали по базам голенастые кужонки — вот было и всё бабье богатство.
Аким Макарович Шестаков пришёл одним из первых. За три года он почти не изменился, только от носа ко рту пролегли две глубокие, словно прорезающие кожу, складки, да в кудрявом смоляном чубе засветились белые нити. По-прежнему отмеривал он слова и не суетился попусту.
До войны он холостяковал, жениться не спешил — всё было недосуг, потому как оставался единственной опорой матери, рано схоронившей мужа, Акимового отца. Местные девахи сохли по Акише, но он, как будто, и не замечал девичьих поглядок. Для походов за цветами девушки выбирали всё больше дальние лужки, лишь бы пройти мимо заветного куреня, стоящего на окраине хутора. Возле плетня они старались смеяться звонче, но оставалось разве что искоса поглядывать на высокую статную фигуру Акима, управлявшегося по хозяйству.
Солдата на хуторе никто не ждал: семьи не нажил, а мать померла в сорок четвёртом, после долгой хворьбы. Другой родни у Шестакова не было. Аким ничего не знал о смерти матери, и теперь, уверенно прошагавший трудные километры по чужим городам и странам, он еле добрёл до родного погоста. Тяжело опустился на чёрную землю рядом с осыпавшимся холмиком и молча просидел несколько часов.
Аким Макарович вернулся с войны не один. С ним пришла тоненькая рыжеволосая девушка, Нина. Левая рука у Нины была отрезана ниже локтя. К тому же оказалась она молчуньей, под стать Акиму.
Хуторские бабы, статные, налитые, никак не могли взять в толк, как эта конопушная пигалица смогла увести у них самого видного хуторского жениха, и только Нинино увечье немного смягчало бабьи сердца. Они не знали — женился Аким по любви или из жалости. Бабам, конечно, хотелось думать, что из жалости.
Шестаковская хата сильно пострадала при наступлении советских войск. Но Аким уверенно взялся за дело и вскоре обновлённый курень горделиво красовался белёными боками под камышовой крышей.
Нина вполне справлялась с хозяйством и одной рукой, при необходимости помогая себе культей левой руки. Приноровившись, рыжуха, как её окрестили местные, ловко придерживала тяпку или перехватывала белье, когда отжимала. Глядеть на это было тягостно, но Акима изъян жены, похоже, не смущал.
— Приворожила! — перешёптывались бабы на вечёрках, поплёвывая семечки. — Как есть приворожила! Рыжие, они такие. Если уж чего удумают, завсегда получают.
У Шестаковых по очереди народились две дочки-погодки. Аким не бартыжал и постепенно в хозяйстве завелись важные шептуны, юркие пеструшки. В сарае мычала коровёнка, в загоне хрюкала упитанная хавронья.
Всё бы ничего, вот только Аким прибаливал. И в плечах был он широк и руки имел жилистые, сильные, но этот недуг иногда делал его беспомощнее грудного ребёнка. Хуторские поначалу пугались, когда, вытянувшись струной, Аким внезапно падал во весь рост и хрипел перекошенным ртом:
— Нинушу позовите, Нинушу…
Если её не было рядом, мальчишки бежали к Шестаковскому куреню и кричали на весь хутор:
— Тётя Нина! На дядю Акима опять лихоманка напала!
Она тут же подхватывалась и бежала, спотыкаясь, как была: босая, простоволосая. И только на её руках муж постепенно успокаивался, светлел лицом.
На расспросы баб Нина отвечала немногословно:
— После контузии у него эта болячка.
Так и жили. РОстили детей, работали в колхозе, управлялись с хозяйством.
Летом 1955 года душное марево на несколько недель плотным колпаком накрыло район. На полях чернел подсолнух, на хуторских огородах сохли овощи. Вот тогда и случилась беда.
Загорелась колхозная конюшня. Раскалённая за день камышовая крыша полыхнула в миг. В разгар рабочего дня пожар заметили поздно, когда огонь уже начал пожирать саманные стены. Беспомощные испуганные люди не знали, как подступиться, а в стойле билась и кричала жеребая кобыла, не выгнанная на выпас со всем стадом.
Шестаковы прибежали последними. Аким, недолго думая, схватил валявшуюся под ногами попону, и, набросив её на голову, кинулся к горящим дверям и исчез в пожарище. Бабы голосили, мужики матерились, не решаясь подойти.
Стоя в опасной близости к огню, Нина всматривалась внутрь сквозь дымную завесу. Время шло, Аким всё не появлялся, только из адского горнила рвался отчаянный и горький лошадиный плач. Никто из толпы не успел заметить, когда Нина шагнула в огонь. Она просто пропала.
Когда саманная конюшня уже стала оседать, из огня прямо на людей вылетела обезумевшая кобыла. Через секунду в пылающих дверях появилась и Нина, тащившая волоком закопчённого мужа. Подбежавшие мужики подхватили рухнувшую без сил женщину за мгновение до того, как с грохотом провалилась горящая крыша.
Муж и жена представляли собой страшное зрелище: в дымящейся одежде, с обуглившимися волосами. Оба были без сознания. Нина странным образом пострадала сильнее мужа — красная обгорелая кожа уже вздыбилась пузырями, из раны на голове на лицо текла кровь. Ошеломленные хуторские растерянно стояли, не зная, чем помочь. Внезапно Аким зашевелился и открыл глаза.
— Нина… — он закашлялся и попытался сесть. Мужики помогли ему приподняться. Аким, увидев умирающую жену, взвыл. С невесть откуда взявшимися силами он кинулся к ней, обнял и стал качать, как маленького ребёнка. Сквозь прерывистый кашель слышались отдельные слова:
— Как вошёл — помню… дышать нечем… опять лихоманка прихватила… упал… Нина… Нинуша… Она меня из под пуль… руку потеряла… и сейчас… как же… Нинуша… Нинуша…
Женщина постепенно затихла в его руках и перестала дышать, но Аким не замечал этого, всё качался и приговаривал:
— Нинуша… Нинуша…
Чёрное небо, с утра тяжёлым брюхом висящее над Доном, разрубило острой молнией надвое. Крупные капли падали с разверзнувшихся небес на дымящееся кострище, на склонённые головы односельчан, на плачущего мужчину с бездыханной женщиной на руках.
Аким похоронил Нину рядом с матерью. Запить — не запил. Только, когда тоска брала за горло, не давала дышать, шёл с бутылью самогона на кладбище, садился у могилы жены, пил горькую и шептал:
— Вот детей на ноги поставлю, и к тебе, Нинуша…
Иной раз досиживал до сумерек, разговаривая с Ниной о чём-то, только им одним ведомом.
Больше Аким не женился. Он умер на Нининой могиле после того, как вторая дочь вышла замуж. Отмучился… | |
Валентина КУРМАКАЕВА
Мне думалось…
Памяти Рыцаря
Мне думалось: однажды позвоню.
(Что стоит в наше время дозвониться?)
Вы отзовётесь, мой старинный рыцарь,
Когда однажды, всё же, позвоню.
Мне виделась картина, и не раз,
Как в замок Ваш войду одноэтажный,
Где вдохновение сильнее жажды,
А за окном – резвящийся Пегас…
Знакомые доспехи и копьё,
Идальгов быт, где лишнего ни грамма.
Вы мне прочтёте что-нибудь своё,
И что-нибудь ещё из Мандельштама.
Исполню я свою (в кавычках) роль,
Воспитанной, но своенравной дамы:
В пародии свои и эпиграммы,
Перчёные, ещё добавлю соль…
Мне думалось и виделось вчера,
Всего-то в двух шагах от телефона!
Но, оказалось – время непреклонно,
А истина по-прежнему стара.
Что рыцарю, крещённому пером,
Сегодня мой звонок, сирена, зуммер?
Из трубки вежливое: «Рыцарь умер».
И – тишина, похожая на гром.
Из письма другу
(Отрывок седьмой)
…морей и гаваней, и мест без адресов,
Куда забрасывала жизнь меня – не мало.
Но, почему-то, алых парусов
Я никогда нигде не наблюдала.
Но каждый раз – ты это видел сам, –
Когда заря над морем разгоралась,
Она дарила белым парусам
Не долгую, но сказочную алость.
А сердце верит в сказку – хоть умри! –
Сильнее, чем в изменчивость Фортуны.
И именно в разгар такой зари
Мой Грей сошёл ко мне с рыбацкой шхуны… |  |
 Ольга ЛОЗБЕНЕВА Ольга ЛОЗБЕНЕВА
ХОЛОД
— Да что ж такое?! — отбрасывая выбившийся из-под шапки локон, женщина лет сорока безуспешно пыталась вставить ключ в замочную скважину.
Дверь распахнулась, — из квартиры донеслись звуки компьютерной «стрелялки». На пороге стоял, поправляя очки, худощавый подросток.
— Ма, ты чего так долго — уже восьмой час?
— Тётю Дашу хоронили, Андрюша. Помнишь её? Она тебя конфетами угощала, когда ты ко мне на работу приходил, — женщина, держась за дверную ручку, переступила через порог.
— От тебя перегаром несёт, — подросток прикрыл перед ней дверь.
Опухшие красные глаза женщины смотрели на сына. Тот опустил голову.
— Ма, пойди пока, погуляй, а?
— Что?
— Уйди. Протрезвеешь — придёшь! — подросток кивнул на лестницу, ведущую к выходу.
— Сынок! Ты что?!
— Нажралась, как свинья!
— Т-ты как с матерью разговариваешь?! — женщина толкнула дверь.
— На похоронах была! — передразнил её Андрей. — А чего ты так напилась? Ты ж никогда не пила! И даже когда папа к этой рыжей ушёл! И даже когда я паспорт получил!
— Андрей!
— Посмотри, на кого ты похожа! Ко мне друзья пришли, а ты? Иди! Не позорь меня!
— Ка-ак?! К-куда?! — глаза женщины приобрели обычную живость.
— Куда хочешь! — сын выталкивал мать за порог.
— Там же холодно! Мороз!
— Быстрее протрезвеешь! — подросток навалился всем телом на дверь и закрыл её.
Женщина долго стояла, пытаясь осознать происшедшее. Потом толкнула дверь — та была заперта. Нажала кнопку звонка — без ответа. Нажала ещё — не открывали. Она медленно развернулась и пошла вниз по лестнице.
«Не позорь меня!» — звучало в ушах. «Не позорь меня!»
— Как же так?! За что?! — она вышла на улицу.
Перед глазами встала темнота. Ноздри обжёг морозный воздух. Она медленно побрела вглубь двора и, рыдая, опустилась на лавку. «Дождалась, а?! От любимого сынульки… — женщина разразилась рыданиями. — Да что ж это такое?! Что за день такой?! Сначала тётя Даша! Потом эта сволочь!.. Свадьбу обещал! В любви клялся! «Любименькая-миленькая Катенька!». А, оказалось… Там есть «любименькая-миленькая» жёнушка!» Сволочи, мужики! Сволочи! Сволочи! Сволочи! — она ударила кулаком по коленям и прекратила рыдать. Только тяжёлое дыхание было слышно в вечерней тишине: «А теперь ещё и сын, а? В кого такой?! Я ведь ему с детства говорила, что к людям надо чутким быть, добрым! Да что говорила! Ведь примеры у него перед глазами всегда были!
Она смахнула слёзы, ползущие по щекам. И вспомнила, как наклонилась над лежащим на сырой траве мужчиной.
— Вам плохо? Плохо Вам?
— А-а? — перегар ударил в нос.
— Ма, пойдём, — хнычет сын. — Ты же «Киндер-сюрприз» обещала купить.
— Сейчас, сыночек. Сейчас. Видишь, дяде плохо. Надо помочь.
— Он же пьяный.
— Если человек лежит на земле, это не значит, что он пьяный. Может, ему плохо стало. Он и упал, — говорила она, с трудом приподнимая и облокачивая человека на ствол дерева.
— А тот дяденька, помнишь? На прошлой неделе. Он пьяный был, а ты ему сто рублей дала.
— Не пьяный он был. Просто немного выпил — праздник отмечал. А упал, потому что ногу подвернул в этих колдобинах.
Поднятый с земли мужчина что-то промычал.
Она достала носовой платок.
— Вам щёку вытереть надо и руку, и пиджак.
Она вновь обратилась к сыну.
— И вообще, Андрюша, даже если пьяный человек — это не значит, что он плохой. Разные причины бывают, сынок. Мы же их не знаем. И не в праве за это осуждать людей.
— А зачем ты сто рублей дала?
— На такси. Чтоб мог до дому добраться — ведь идти он не мог, а денег не было.
— А другие люди не давали…
— А ты не бери пример с других. Представь, если бы я подвернула ногу. А денег на дорогу не было… Представляешь, ты ждёшь меня дома, а меня нет и нет…
Катерина перестала оттирать грязь. Пробормотав что-то нечленораздельное, мужчина снова повалился на землю.
Она попыталась его поднять.
— Молодой человек, — окликнула она проходящего мимо парня. — Помогите!
— Да бросьте вы его, девушка, — поморщился тот. — Смотрите, вы уже плащ испачкали.
— Сердца у вас нет, что ли? — она вновь сделала попытку поднять мужчину.
— Ой, дочка, — запричитала подошедшая старушка. — Брось его. Горбатого могила исправит. Вон, у тебя дитё… Какой пример ему будет?! Ты ещё молодая — найдёшь себе нормального. Я со своим таким же всю жисть промучилась, пока не помер. Бросай его, девонька, пока не поздно!
— Видать, сама такая, — хихикнул кто-то за спиной Катерины.
— А вот и нет! — услышала она голосок сына. — Просто моя мама очень добрая!
В ответ послышался громкий хохот.
Катерина вздрогнула. Поёжилась. Попыталась с головой укутаться в шубу. Холод пробирал всё тело. Она взглянула на окна квартиры. В освещённом окне увидела сына. Тот, заметив, что мать повернула голову в его сторону, скрылся за шторой.
— Андрюха, ну чё ты в окно всё пялишься? Твой ход! — кричали ему.
«Просто моя мама очень добрая!» — слышал он в памяти свой голос. Голос тонул в громком хохоте. | |
Ольга НЕМЫКИНА
Погибшим в авиакатастрофе...
Светило солнце, как всегда.
И жизнь беды не предвещала.
Была упругой высота
И самолёт легко держала.
Ещё звучал в салоне смех
Людей, поверивших машине.
Никто не ведал, что на всех
Одна беда у них отныне,
Что в никуда зовёт полёт,
И что хранители отстали -
Для всех был ангелом пилот,
Ведущий в небе тонны стали.
Но в судьбы их вмешался рок,
И силы тьмы торжествовали…
Бессильно плакал мудрый Бог,
Окаменевший от печали. | |
Арпи ОГАНЯН
***
Устала счастье в мире я искать,
Ведь ценности ничто здесь не имеет.
Я солнце в левый спрятала рукав:
В любой мороз оно меня согреет.
А в правый – мир, деревья и траву.
Стихи, друзей… и всё, чем дорожу я.
Всё, что во сне и всё, что наяву…
О чём пишу, пою… и что рисую.
Я пальцы закрываю на замок,
И из души молитва снова льется. –
Из рукава выкатывает Бог
В другой рукав оранжевое солнце… | |
Клавдия ПАВЛЕНКО
***
«Всё плещет, всё хлещет он, проливень-ливень»
(Леопольд Стафф «Осенний дождь»)
Пью чай и скучаю.
А дождь – нескончаем.
«Всё плещет, всё хлещет»,
Всё тьмою он блещет!
И – меркнет золою.
То ветром завоет,
Озябшей волчицей,
То в окна стучится,
Стучится, стучится…
И мокрые ветки,
Родные соседки,
Всё ниже, всё ниже.
Далёкие речи –
Предчувствием встречи –
Всё ближе, всё ближе…
***
Сметанки – к свежему борщу,
Картошки-зелени – к лещу!..
Бегу. Спешу. Ищу. Тащу.
На жизнь нисколько не ропщу.
Смогу я, – гвоздик вколочу,
Ножи – сумею, – наточу,
А нет, – соседу заплачу.
Но, правда, – не озолочу.
Приспичит, – подвиг совершу, –
Взнуздаю, вычищу, вспашу…
И разожгу, и погашу.
Венок сонетов напишу!..
Но жить мешает тишина,
Незащищённая спина
И горькой мысли пелена:
А вдруг, – война…
***
Зачарованный сад –
и пустынен, и гол –
Мёртвых листьев ковёр
тёмно-медный
Расстилал нам под ноги,
когда ты ушёл –
Не прощаясь, –
несчастный и бледный.
Незнакомо пахнув
ароматом хмельным, –
Растворился
в еловой аллее.
Я когда-то мечтала
быть небом твоим…
А теперь –
лишь простудой болею. |  |
Юрий РЕМЕСНИК
* * *
Вячеславу Юртаеву
Спасение в провинции, в деревне,
Где воздух чище, помыслы честней,
Где обрастают зимние деревья
Багряным первоцветом снегирей.
Там меньше суеты и больше света,
Там каждый для кого-то сват и брат.
Там все: кто – лицедеи, кто – поэты,
Хотя и рифмоплётством не грешат.
И если ложка дорога к обеду,
То сам обед – к обыденным речам,
И так нетороплива речь беседы
За окаянной чаркой первача.
Там по привычке центр зовут «усадьбой».
Ложатся поздно. До зари встают.
А как гуляют на деревне свадьбы,
А как на свадьбах пляшут и поют!
Там знают цену утреннему хлебу,
Там любят землю бережно, как мать.
В провинции рукой подать до неба,
Чтоб наливное яблоко сорвать.
И в этом мире необъятной сини,
На зеленях засеянных полей
Так необъятно верится в Россию,
Так безоглядно верится в людей.
Бомж
Дремал вокзал. Чадило хлоркой лето
У стойки, где колбасил «малый зал»,
Читал мне бомж из Ветхого Завета
И что-то из Овидия читал.
Послушник милицейского чертога.
Прокуренный. Пропитый. Продувной.
Он убеждал, что хиппи – от Ван-Гога,
И что Ломброзо – гений, но блатной.
Он круто сёк в Сковороде и Секки.
Генсека – слал на редьку и на хрен.
Паломник, не добравшийся до Мекки,
Пропивший свою бочку Диоген...
Я щедро разбавлял вином скаредность
И, падая с подъездной высоты,
Со страхом ощущал свою ущербность
Перед богатством этой нищеты.
И, может быть, невольно виноватый,
Глядел в зрачки Несбывшейся Судьбы –
А в них светилось что-то от Сократа
И от святой российской голытьбы.
Мамино пальто
Среди модных теперь манто,
Подтверждающих сносный быт,
Твоё старенькое пальто
Сиротливо в углу висит.
Вряд ли кто из колхозных баб
Мог завидовать пальтецу,
Но его груботканый драп,
Да и цвет, был тебе к лицу.
Замечал ведь и я – малец,
Как, на ласки «телячьи» скуп,
Любовался тобой отец –
Не сходила улыбка с губ.
Как он нежен и светел был,
Когда рядом на Рождество
Шли вы в клуб, где кино крутил
Лейтенантик от ПВО…
Помню всё. Помню каждый миг,
Ставши возрастом старше вас.
Помню твой отрешённый лик
С немотою закрытых глаз.
И завьюженный наш погост,
Обозначивший твой предел,
В день, когда я ослеп от слёз
И от горя душой прозрел.
Когда в злобную ту пургу
Всё бубнил я отцу о том,
Что мамане в таком снегу
Будет холодно без пальто…
Пусть его старомодный стиль
Удивляет гостей моих,
Никогда я не сдам в утиль
Синий драп с твоих плеч родных.
Вновь лютует мороз крутой,
Вьюгой выстужена изба, –
В твоё старенькое пальто
Зябко кутается судьба. | 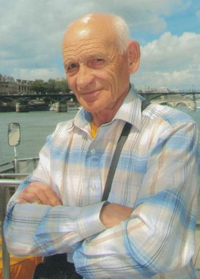 |
Ирина САЗОНОВА
* * *
« Всё проходит...
пройдёт и это...»
/ Экклезиаст/
Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети,
Поскольку мир вращался ради нас...
«Рай в шалаше» царил в «хрущёвке» прямо –
И не давила холодом зима,
А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума...
Ты не молился, я не «кипятилась», –
Безмерно к миру внешнему глухи, –
Но радужной каймой земля светилась,
Рвались из жерла принтера стихи...
Склонённое лицо славянской лепки
Зеркалилось в глуби восточных глаз...
В ту пору наши створы были крепки,
И «выдох» жёг насквозь, как в первый раз!
Нулём десятилетие светило –
Жизнь пафос сбила, но не размела...
Я словом «есть» гасила слово «было»,
И видела сквозь розовость стекла...
Но как теперь, на финишной конечной,
Признать библейской мудрости оплот:
Любовь – не вечна, даже жизнь – не вечна...
И это всё –
пройдёт...
пройдёт...
пройдёт...
* * *
Осень. Грачи. Качели.
В жарких лучах овраги.
На листвяной постели
Греют бока дворняги.
Негой зазывной, майской
Светятся ноябрины,
Золотом птицы райской
Выстлано дно лощины…
В этой весне обманной
Пальцы опять сомкнулись –
Тропкою Левитана
В прошлое мы вернулись.
Снова порыв полёта,
Снова согреты плечи –
То ли приснилось что-то,
То ли случилось нечто…
Память твердит: бывали
Мы в запределье счастья.
Солнечность этой дали
Тучи разрыва застят…
Но ступим в реку дважды,
Волнам доверясь грозным!..
Зная: от жгучей жажды
Не откреститься. Поздно.
Тебе
Ты – у меня,
я – у тебя –
До ветхой старости,
До неуверенных шагов
Жизнеусталости....
Тебе –
доверчивость моя –
И злоязычие...
В твоих руках «я – это я»,
Сломав приличия!..
С тобой –
запетое кляня,
В открытьях плавая,
Не поменяла бы
коня
На переправе я!..
В тебе –
небесное с земным –
Едино сходится...
Строке молюсь
с тобой одним –
И Богородице…
С тобой –
паренье и ходьба –
по снам и лужицам…
Ты – у меня,
я – у тебя –
Да не разрушится!.. |  |
Галина СТУДЕНИКИНА
К морю!..
Завис бессонный интернет… Свет.
И в палисаднике рассвет, свет,
готовит солнечный букет-свет.
В кейс – ноутбук,
на стол – планшет...
Свет.
Скрипит приветливо паркет: свет.
Журчит из ванной твой фальцет… Све-е-ет!..
Сражённым змием свёрнут плед: свет;
постель за мной –
как будто вслед
(свет…)
«Захлопал» дверцами буфет, – свет;
рванулся кот из-под газет: «Свет!?..»
Твой смех – любимой из примет (свет!),
той, что светлей
на свете нет:
свет.
Шкварчит-пузырится омлет, свет,
В духовке – парочка котлет… м-м-м! – свет!..
Хрустит поджаристо багет – свет,
в медовых капельках
шербет-свет…
Два чемодана, клатч, пакет, свет,
билеты, кейс… в пакет – конфет!.. Свет.
Зашёл за котиком сосед-свет…
Такси клаксонит: всё. –
Привет, свет:
всемерность зим,
всевечность лет –
да будет свет!
По тёмным лужам…
Твоим твореньем,
среди лучших – лучшим,
друзья ли, недруги твои меня назвали.
Но и тогда – они едва ли знали,
что за богиня, высветляющая дали,
скользит лучом
твоих стихов
по тёмным лужам –
в дожде заблудшим…
Кого спасаю,
по волнам бегущей, –
твои ль стихи, стихию ль огненного сердца?..
Жизнь коротка, как дождевое скерцо, –
успеть самой бы в этом ливне оглядеться!
Но всё лучусь
твоим стихом,
как Словом сущим –
из лучших лучшим… |  |
Людмила СУХАНОВА
Для других
Человек рождён не для себя,
а для других.
(Цицерон)
Словно карты, «раскинув» прошедшее,
Вижу радость, печали, да боль;
Да поступки свои сумасшедшие;
Да убитую ядом любовь...
Что – стихи? – Может, муки бесплодия?
Вот, в саду – сорняки по плечо...
Только слышу в душе я мелодию,
И в груди от неё горячо.
Только слышу напев кем-то начатый, –
Он меня побуждает на стих...
И смеётся, и стонет, и плачет он,
И зовёт жизнь прожить... для других.
Непокой
А было воскресенье
От слова «воскресать»,
И ты – моё спасенье –
Пришёл меня спасать...
Когда – уже нависла
Гроза над головой,
И осень с миной кислой
Сулила слёзный рой,
А ветер жгучий, хлёсткий
Последние листы
С испуганной берёзки
Срывал... явился ты.
В карманах – звёзд сиянье,
За пазухой – луна,
И позднее признанье,
Как осенью – весна,
Как запоздалый донник,
Пахучий и хмельной...
Ты протянул в ладонях
Целебный непокой.
Развеялись сомненья,
Умчавшись в небеса...
И было воскресенье
От слова «воскресать»! |  |
Дмитрий ХАНИН
Свет
До чего же повсюду темно,
Всё смешалось: дома и деревья.
Лишь горит вдохновенно окно,
В силу солнца по-прежнему веря.
Больше света не видно нигде…
И прекрасно, что полночью хмурой
Хоть кому-то уютно в гнезде
Под лучистым крылом абажура.
Кто-то смотрит на кухне кино
Или с книгой задумчиво дремлет,
А раскрытое щедро окно
Отблеск счастья роняет на землю…
Не изгнав монотонную тьму,
Свет в бурьян у дороги ложится…
Я душою его подниму,
Как перо чародейки Жар-птицы.
***
Если злобой мир окован
И снега гнетут судьбу,
Я иду к стихам Рубцова,
Словно в мудрую избу.
Там уютно, как в апреле,
Хоть из окон светит грусть…
Я вернусь потом к метели,
Но другим уже вернусь…
***
В городе – снег. А над снегом горят фонари.
Пусто кругом. А у дома столпились деревья.
Ручка дверная от холода жмётся к двери,
Хоть никогда и не видела комнат за дверью.
В доме тепло. Здесь хозяйка пирог испекла.
Чай на столе. Как же можно под вечер без чая?
В печке – огонь. Как же можно зимой без тепла?..
…ручка дверная гостей на морозе встречает.
В доме – цветы. В доме к полночи танцы начнут.
Будет веселье – и лампы продолжат мерцанье.
Людям достанется добрых объятий уют.
Ручке дверной – лишь ладоней горячих касанья.
Эти касанья не в силах надолго согреть.
В тихой двери пробудится задумчивый скрежет:
Если тепло существует, то нужно терпеть.
…Что же ещё на морозе надежду удержит?.. |  |
Кнарик ХАРТАВАКЯН
***
Ищу себя, в безвременье затеряна…
Корчуют с корнем память о былом.
Годов прошедших доброта немерена,
Но в лживых новых – всё пошло на слом.
Всё смято, искорёжено, рассеяно.
Ищу устои, наций монолит…
Но нет народа – нет меня: развеяна.
Поди сыщи, шепча слова молитв.
Ищу себя в Отечестве раздробленном,
И рассечённой кажется душа…
Скликать сограждан по теням их сгорбленным,
Собрать их вместе, рубежи круша?
Ищу себя в торосах равнодушия –
В кровь рассекает пальцы колкий лёд…
Свой пламень чувств ищу я с верой в лучшее,
К сердцам горячим двигаясь, вперёд.
Ищу былую праведность, доверчивость.
И кротость – ведь была она во мне!..
Ведь сути не коснулась переменчивость
На вероломством начатой войне?!
Но знаю, яростью святой охвачена:
Лишь защитив, смогу найти, спасти…
Победой, обретенье, будь оплачено,
Чтоб век благой и край свой обрести!
Чтоб обрести себя в своём Отечестве
И справедливость, праведность вернуть…
И радоваться звонко, как в младенчестве,
И в жизни вечной свой продолжить путь!.. |  |
 Людмила ХЛЫСТОВА Людмила ХЛЫСТОВА
НАСЛЕДСТВО
Алла разрывалась между бабой Машей и семьёй. Так случилось, что у двоюродной бабушки по матери Марии Борисовны не осталось никого родных. То есть, какие-то дальние родственники в деревне были, а близких – никого, кроме Аллы. Бабе Маше уже исполнилось восемьдесят четыре, а умирать ей всё равно не хотелось. По утрам она «копошилась» у себя в огороде, кое-как управлялась по дому, а он у неё, к слову сказать, был настоящий, крепкий, не какая-нибудь мазанка. Но силы уже не те, да и болячки понацеплялись, поэтому, как баба Маша не кряхтела, стараясь всё успеть, а идеальное некогда хозяйство рассыпалось и ветшало. Мария Борисовна не хотела с этим мириться и выставляла упрёки Алле, мол, редко ходит, и неумеха, (в кого только удалась!), да и делать ничего не хочет, знает, что усадьба-то ей достанется, кому же ещё?
Аллу такие выговоры злили, она считала, что много сил тратит на бабку в ущерб семье: таскала ей продукты с рынка, мыла и стирала, пропалывала огород, да ещё кормила несчётное количество котов (святое дело!), которым во дворе у бабы Маши будто сметаной было намазано.
Муж Аллы Леонид тоже не в восторге был от такого «прицепа», но сияющее миражём наследство примиряло его с временным неудобством. Их сыну Вовке шёл четырнадцатый год, и Алле казалось, что вышел из него лоботряс как раз потому, что почти все вечера она обихаживает бабу Машу, а «дитю» ладу не даёт.
Поэтому промеж бабкой и Аллой нет-нет, да и случались выяснения, кто же правильнее жизнь понимает.
…После очередной размолвки Алла в сердцах не заходила к ней почти неделю.
Потом не выдержала, накупила гостинцев, пошла. Беспокойство какое-то в душе ворошилось. На подходе к переулку встретилась соседка бабы Маши:
– Ой, Алла, мы уже хотели тебе звонить! Борисовна исчезла!
– В каком смысле?
– Да в прямом!.. По вечерам окна не светятся, во дворе её не видно и не слышно. Звонили, кричали – бесполезно! Не померла ли?
Алла пустилась к знакомому подворью почти бегом, открыла своим ключом дверь – в доме никого!
Никто не мог толком ответить, как давно видел бабу Машу. Знали только, что последнее время общалась она с одной богомольной Натальей, которая, бывало, приходила в переулок, предлагала какую-то религиозную литературу, пыталась навязать беседу о Конце Света и Спасении. Кто-то вспомнил, что на прошлой неделе Наталья выходила от бабы Маши с какой-то женщиной. Алла в тревоге и надежде позвонила бабе Маше по мобильнику. Оператор доложил, что абонент недоступен.
Всё это было очень странным, и Алла побежала в полицию с заявлением.
Неожиданно, на очередной, панический звонок Аллы сотовый телефон Марии Борисовны ответил… голосом незнакомой женщины:
– Внучка? У Мани нет никакой внучки!
Алла опешила:
– С кем я говорю? Где Мария Борисовна? Дайте ей трубку! Это Алла.
На том конце провода почувствовалось какое-то замешательство, потом оттуда прилетел грубый отклик:
– Она не желает с вами разговаривать! Не звоните! Вы слишком плохо с Марией Борисовной обращались. На дом не рассчитывайте. Она отписала его другому человеку. Не вздумайте идти в полицию – пожалеете!
Алла так растерялась, что не успела ничего ответить, а в трубке послышался отбой.
События разворачивались, как в махровом детективе. За неизвестной аферисткой кто-то стоял… Или она блефовала?
Документов на дом в бабкином «тайнике» не оказалось. Не было и сберкнижки, на которой, Алла знала, собралась значительная сумма. Голова шла кругом. Если преступники уверены, что имущество в их руках, значит баба Маша жива, она им нужна, чтобы всё оформить… Или всё сделано?.. Но она, внучка, смогла же войти в дом…
Первым делом Алла врезала новый замок во входную дверь. С трудом удалось найти номер мобильного Натальи, которая «обрабатывала» и соседку бабы Маши. Одно это указывало на её нечистые замыслы.
Разговор по телефону получился нервным и бесполезным. Алла требовала, чтобы ей сообщили, где находится её бабушка. Но Наталья твердила, что Мария Борисовна в безопасности, что она сама отказывается встречаться с Аллой.
Полиция оперативности не проявляла. Зная характер бабки, Алла могла поверить, что из-за обиды на неё, та решила обойтись с внучкой так жёстоко. А если бабушку обманули и теперь держат в заложницах? В каком она сейчас состоянии с её сердечной недостаточностью и скачками давления?
Ситуация не поддавалась осмыслению. Как такую осторожную и недоверчивую женщину смогли заманить в ловушку? Почему Баба Маша сама не скажет Алле о своём решении? Что стоит за угрозой не обращаться в полицию?
Леонид прилагал все усилия, чтобы через номер мобильного найти адрес злоумышленницы. Телефон больше не отвечал.
Время тянулось тревожно и безрезультатно. Баба Маша пропала бесследно. Полиция ссылалась на внутрисемейные конфликты, и действовать не торопилась.
И вдруг вечером зазвонил городской телефон в квартире Аллы.
Та, будто предчувствуя худшее, схватила трубку.
– Аллё! Алла! – услышала она слабый голос бабы Маши. – Аллочка, дочечка, забери меня отсюда!
– Где ты, бабушка?- взволнованно закричала Алла, боясь, что связь прервётся.
– Они меня закрыли и никуда не пускают, еды дают мало, – плакала баба Маша.
– Кто «они»?
– Какие-то женщины… Они на меня кричат. Забрали таблетки. Я умру… Приезжай!
– Да, да! Приеду! Назови адрес!
– Я не знаю. Мне ничего не говорят. Меня заставляют подписать какие-то бумаги…
– Баба Маша! Это квартира или дом? Хоть что-то скажи…
– Дом … улица Садовая… кажется. Из окна видно магазин… или кафе… «Встреча». Аллочка, мне так плохо! Я задыхаюсь!
– Успокойся, бабуля, родная! Я найду тебя! Не плачь! Всё будет хорошо! – уговаривала Алла, но в трубке уже пошли гудки.
На следующий день Марию Борисовну освободили и привезли домой. У заговорщиц Натальи и её сестры Раисы не вышло заполучить квартиру опутанной старухи, но сберкнижка оказалась пуста. Как она передала без малого двести тысяч аферисткам, баба Маша не помнила.
На неё было страшно смотреть: грязная, измученная, с трясущимися руками, она, похоже, не верила в своё избавление.
– Ничего, ничего! Всё позади, бабушка Маша, – обнимала её Алла. – Главное, что жива… | |
Виктор Шостко
***
В осенний день – когда тепло
И грусть, как святость, в человеке,
А свет, запаянный в стекло,
Остановился в нём навеки –
Так неподвижен жёлтый лист,
Так незаметен тёплый воздух,
Что слышен в мире
Каждый свист
И различаем каждый возглас.
И я тому, быть может, рад,
Что в час,
Когда другим печально,
И высь, и даль, и встречный взгляд
Со мной вот-вот заговорят,
Не в силах вынести молчанья.
***
К тропинке заброшенной тянет.
Задетая ветка отпрянет
И долго качается вслед.
И под ноги сброшенный ворох,
Меняющий шёпот на шорох,
В свершившемся ищет ответ…
К тропинке заброшенной тянет,
Где нищее золото вянет,
А свет наполняется мглой.
Направо свернёт ли, налево –
Там каждое встречное древо,
Прощаясь, становится мной.
***
Отмерцали степные цветы…
Отболели и выцвели травы.
Неожиданно стали пусты
Небеса, что всегда величавы.
Заблудились в пути облака…
Нет ни с севера вести, ни с юга.
И опять высота высока,
И на цыпочки встала округа.
Жизнь теряет избыточный цвет.
И её обнаженное имя,
Отряхнувшись от ярких примет, –
Беззащитней и необъяснимей… |  |

|
Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"
Комментариев:
|
|







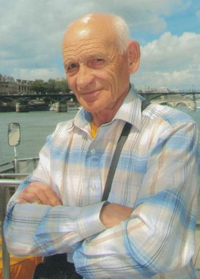






 Татьяна АЛЕКСАНДРОВА-МИНЧАКОВА
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА-МИНЧАКОВА  Ксения БАШТОВАЯ
Ксения БАШТОВАЯ  Алексей Глазунов
Алексей Глазунов Ирина КОРОТЕЕВА
Ирина КОРОТЕЕВА Ольга ЛОЗБЕНЕВА
Ольга ЛОЗБЕНЕВА  Людмила ХЛЫСТОВА
Людмила ХЛЫСТОВА