Александр НЕСТРУГИН (Воронеж)
ВЫБОР
О книге Василия Килякова «Ищу следы невидимые»
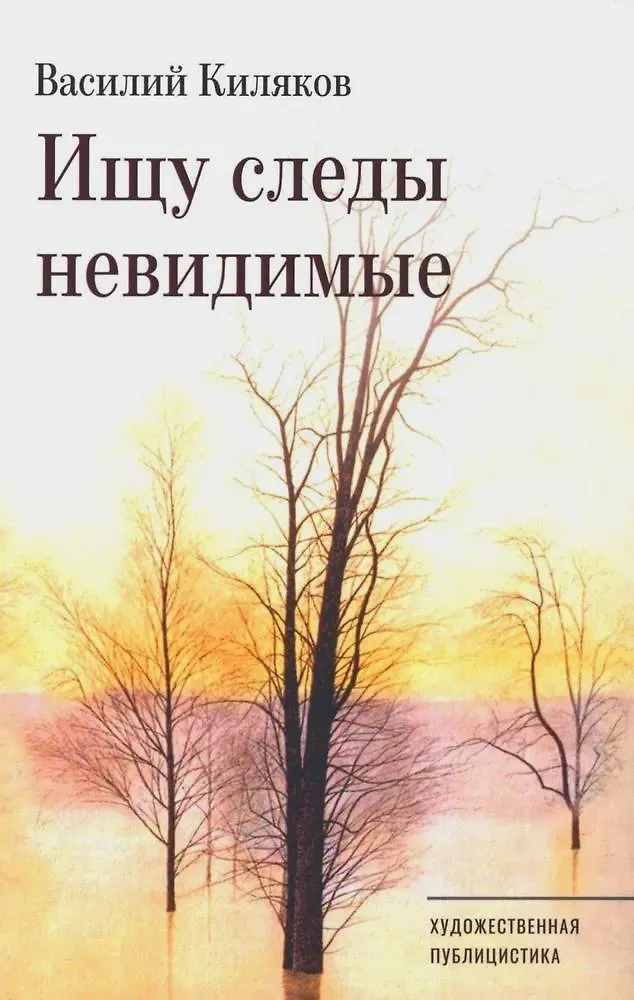 Поневоле заставляющий задуматься литературный парадокс: интерес к художественной книге (всякого рода развесистую «клюкву» я в расчёт не беру) неуклонно падает, а к людям, эти самые книги написавшим, к их беллетризованным биографиям – растёт.
Поневоле заставляющий задуматься литературный парадокс: интерес к художественной книге (всякого рода развесистую «клюкву» я в расчёт не беру) неуклонно падает, а к людям, эти самые книги написавшим, к их беллетризованным биографиям – растёт.
Почему?
Не потому ли, что жизнь всякого крупного художника слова полна того опаляющего сердце драматизма, который вымыслу, даже самому изощрённому, не под силу?
Писательские судьбы…
Какие трудные, какие горькие пути они, в большинстве своём, выбирают! Или это их выбирают – времена, крутые повороты, суровоглазые обстоятельства?
Вот и Василий Киляков… Его судьба, в чём-то типичнейшая до оскомины, во многом всё же выбивается из ряда, её «шершавинку» чувствуешь в строке едва ли не на ощупь. С младых ногтей будущий писатель лепил себя сам: живя и в рязанской деревне, и городе, он жадно впитывал, запоминал и пытался осмыслить «жизнь изначальную» - лишённую даже признаков праздности и роскошества, неизящную, порой грубую, но по-своему мудрую, честную. К исходу советских времен, отслужив в армии и получив надёжную в житейском плане профессию, обрёл он уже вроде бы и влекущую писательскую стёжку: пошли первые журнальные публикации, случились премии-отличия. Но стёжка эта была ещё узенькой и короткой, полузрячей, а хотелось – простора, Пути. А на дворе год переломный, 1991-й. Вот как он выглядит в «оптике» самого В. Килякова: «Нищета, отчаяние. Безгонорарные публикации, пустая, нищая, голодная «читательская» публика в Москве… Даже в Москве: на улицах и рынках, на вокзалах и за лотками – мешочники да лавочники. Жизнь они полностью подмяли под себя, эти самые торгаши, - и взирали с лотков на прохожих, как пауки из щелей взирали бы, выслеживая мух. Палёной водки – море разливанное…»
В такое время – какая ж тут литература, выжить бы; а он поступает в Литинститут. И не просто поступает, а делает выбор: «…я прошёл творческие конкурсы по жанру «критика» к Е.А. Сидорову, будущему министру культуры, и по жанру «проза», к М. П. Лобанову. Ни минуты не сомневался, на ком из преподавателей остановить свой выбор, если конечно, Михаил Петрович примет меня». Вот оно, пересечение писательских судеб: уже состоявшейся, мудрой и мужественной, - и «рассветной», только-только брезжащей. Пересечение знаковое или – не только в литературном плане – ничего не значащее, случайное?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочесть книгу, ставшую событием и смыслом этих отнюдь не бесспорных, но зато, надеюсь, не «сторонних», не теплохладных заметок. Уже само название её обращает на себя внимание: «Ищу следы невидимые: художественная публицистика». Вышла она в московском издательстве «У Никитских ворот» в 2024 году. Книга весомая: 720 страниц вовсе не склонного к пустопорожней болтовне, всегда заряжённого на спор, порой по-мальчишески порывистого, но «зрячего» и вдумчивого текста. Предисловие, написанное председателем Совета по критике Союза писателей России Вячеславом Лютым, озаглавлено ёмко и определённо: «Красота и неподкупная правда». Давая высокую оценку отличающемуся «в первую очередь, своей интонацией» писательскому голосу, известный критик неслучайно отмечает, что в устах автора книги «часто звучит имя Михаила Петровича Лобанова, выдающегося критика и мыслителя, профессора Литературного института им. А. М. Горького. Семинар прозы Лобанова не раз называли «семьей», потому что вот так, по-семейному, старший говорил с молодым поколением, которое взялся учить уму-разуму. Он обладал удивительным умением называть вещи своими именами и никогда не боялся этого. Неслучайно многие завидовали ученикам Михаила Петровича белой завистью: редкое счастье входить в «семейный круг» подобного уникального человека».
О нём, об этом редком счастье, поклонно-благодарное, сыновнее слово В. Килякова – и в открывающих книгу думах-воспоминаниях об Учителе, и далее по ходу многих других текстов. Имя «Лобанов» здесь – как камертон: не отступиться, не отмолчаться, не сфальшивить. Более того, умело закольцованная книга обогащена материалами из литературного наследия Михаила Петровича, подготовленными к печати хранителем его рукописей Татьяной Николаевной Окуловой; ею же – в память о муже и наставнике – составлен очень важный заключительный раздел: «М. П. Лобанов: из размышлений о литературе и жизни». Именно в нём из первых рук дан ответ на вопрос, была ли та давняя, 1991 года, встреча учителя и ученика определяющей, судьбоносной. Но об этом потом. А пока… Завершая тему учительства, литературного и жизненного, приведу ещё два названных автором дорогих для него имени: Глеб Горышин и Николай Старшинов.
Первому, говорившему, по словам самого Килякова о его повести на совещании молодых писателей во Владимире «даже более резко, чем следовало», посвящены «ознобные», благодарно-прощальные эссе «Возвращение снега» и «Птица небесная». «Резкий» Горышин одним из первых (за руководителем Литинститутского семинара Лобановым) поддержал тогда молодого прозаика, дал ему рекомендацию, открывшую дверь в Союз писателей России. И стал потом необходимым человеком, дорогим собеседником, старшим товарищем. Хотелось бы продолжить здесь – «на многие годы», но не получается: вскоре Глеба Александровича не стало. Осталась память – бередящая сердце, высокая, небесная: «В день его ухода из жизни, в апреле, в ночь с 10 апреля 1998 года, - на Москву и Санкт-Петербург опустился, обрушился свежий необычный снег, такой волшебный буран «забелил» Москву, закружил в белом вихре! Какой-то целебной, удивительной чистоты и силы. Снег… «Возвращение снега» - так называется последний сборник стихов Глеба Горышина…»
А вот со Старшиновым совсем другая история. Николай Константинович, который за время работы в альманахе «Поэзия» «поставил на крыло» не один десяток талантливых поэтических «слётков», приглашал к себе домой Василия Килякова – для чего бы вы думали? - о частушках поговорить! И говорил часами, и пел свои любимые под старенькую «венку»-двухрядку, да так увлечённо и самозабвенно, что супруга, открыв дверь в комнату, ласково его окорачивала: «Нико – ла – ша!» Вроде и не было в тех встречах-посиделках (кстати, проходили они без спиртного) ничего специфически учительского, но это лишь на первый взгляд. Было, и на всю жизнь запомнилось: «Шёл я в одиночестве к метро от Безбожного переулка, от его дома – к метро «Проспект Мира», вспоминал его стихотворения, особенно стихи военных лет…»
А ещё вспоминал молодой литератор Киляков, как сожалел поэт-фронтовик Старшинов, что позволил себе «сгоряча и наспех» напечатать собранные им частушки «с картинками»: «Морок какой-то, задурили «свободой». Это хорошо, что в твоих папках, Василий, нет частушек и стихотворений похабных. Молодец, этого и держись».
Разумеется, книга «Ищу следы невидимые» - не только об учителях. Во введении-предисловии подчёркнуто, что автор выносит на суд читателей новый, независимый взгляд на творчество Чехова, Бунина, Набокова, Шукшина, Шергина, Мопассана, Моэма…» Здесь всё сказано верно, разве что ряд имён значительно шире. Но я бы говорил прежде всего не о новизне и независимости взгляда, а о литературной и человеческой честности автора, честности перед читателем и перед самим собой. О той самой «неподкупной правде», которую отметил в предисловии В. Лютый. Так, на страницах этой книги не раз упоминается мой любимый писатель И. А. Бунин. И контекст таков, что у меня, читателя, никаких сомнений нет: автор питает к этому русскому классику очень тёплые чувства. И тем неожиданней было для меня прочесть в «Записках пожившего человека» такие горькие, но неоспоримо-точные строки: «С какой яростью, живостью и с каким отвращением Иван Алексеевич Бунин писал книги о революционной и постреволюционной России – по беспощадному исповедальному тону, по пронзительности и остроте – равные им едва ли можно отыскать… Но вот что приходит на память: отчего же родного брата и своего учителя Юлия – отчего брата с теми же проклятиями И. А. Бунин не упрекает нигде? Он любил и уважал его безмерно. Глубоко переживал его безвременную кончину… А ведь именно Юлий, этот не последний в своём значении «чёрнопеределец», народник и революционер, подвергался аресту не раз и даже ссылался».
Господи, да ведь это же мои мысли! И не раз они приходили меня мучить. Разрываясь между Буниным «Жизни Арсеньева» и Буниным «Окаянных дней», я страдал и сокрушался, и негодовал порой, а вот вынести эту свою «обиду» «на люди» не смог, не решился. А Киляков решился. Может, зря? Но ведь и хирург, спасая человека, по живому режет…
С болью непреходящей, как о родном человеке, написан очерк В. Килякова «Тайна В. П. Астафьева». «Писатель Астафьев – человек большого сердца, - убеждён и сегодня автор, – и всё же поражает бездна, разделяющая его творчество: «Зрячий посох», переписка с писателями-друзьями – и по другую сторону: «Печальный детектив», страницы повестей и рассказов последних лет». Отмечая предельную обнажённость чувств астафьевского «Последнего поклона», не может автор пройти мимо резких высказываний классика о русском народе, случившихся как раз перед президентскими выборами в нищей стране, мимо «обломившегося» вдруг писателю от благодарных властей пятнадцатитомника и прочего, хорошо известного. И приходит к выводу, с которым трудно спорить: «…Думаю сегодня, что «Последний поклон» Виктора Петровича Астафьева в жизни – и тот подлинно так и не состоялся. Неискренны те светлые слова, которые вложил он в уста бабушки Екатерины Петровны. Тогда что же это было, если нет поклона, не состоялся он – а есть ненависть. Или случился поклон, но точно не в сторону народа, не бабушке своей, которая, конечно, тоже – народ и даже прежде всего народ. Не в сторону населения даже поклон, если сказать коротко. «Весёлым солдатом», «Прокляты и убиты» - в угоду власти ельциных, горбачёвых (не зря посещали они его, ластились к нему), штрейкбрехера в писателе разглядели. И он старался в поте лица, строчил поспешно несосветимое, неимоверное, здравому уму непостижимое…»
И всё же, при всём при том, - христианское слово прощания, горькое и милосердное: «Царства Божия Вам, великий, но «не несгибаемый» Виктор Петрович. А надломили-таки Вас, дорогой классик, - надломили власти пришлые, нерусские, как рябинку ельцинскую в саду библиотеки села Овсянка. Осушили на корню посулами лживыми да властью Тельца Золотого, заманного. Не Вы виноваты – а искушения. Царствия небесного, писатель, фронтовик, не воспокаявшийся на миру».
Василий Киляков, взыскуя красоты и правды, порой в слове своём категоричен и порывист, но при этом глубок и талантлив, искренен и по-христиански сострадателен. И – зорок, душевно зорок. «Мужичок с рюкзаком тяжело вышел на платформу, силясь, вскинул рюкзак на плечи. Дачник. Вскидывая тяжесть, от усилия и старания топнул ногой в резиновом сапоге прямо в лужу. Лужа расплескалась, и тут же голуби на платформе вспыхнули белым исподьем крыльев, захлопали, поднялись к небу. Три сизаря. Лужа пролилась в ручеек, подхватила белое голубиное перо, потащила куда-то, как судьба тащит бренную жизнь человеческую».
Это что – публицистика? Взгляд? Зарисовка? Прочитаешь - и ноет сердечко, щемит. О чём это, о ком? Уж не о каждом ли из нас, читателей? Да и о самом авторе, пожалуй. «Расплёсканная» чёрными девяностыми, судьба долго тащила его, крутила и била. Не давала взлететь. И многие годы – да нет, десятилетия! – оставался он, писатель глубоко нравственный, духовно сильный, талантливый и яркий, в тени всякого рода литературных симулякров, не на виду, не на слуху. Пережил полунищету, безвременье, бескнижье своё долгое – семью нужно было кормить-поднимать, до книг ли тут, когда копейки лишней в доме нет?
Но – выстоял, не сломался. Работая на трех работах, продолжал писать. И вот…
В 2018 году в издательстве «У Никитских ворот» выходит книга «Посылка из Америки: рассказы и повести», потом, в 2021 году в Воронеже – книга «От истока к устью: стихотворения разных лет». Книги эти были тепло встречены читателями и писательским сообществом, отмечены целым рядом значительных критических отзывов и литературных премий. Наконец, в году минувшем, завершая давно задуманную личную творческую триаду, явлены «граду и миру» и «следы невидимые» - художественная публицистика, которая, сдаётся мне, с самыми заметными явлениями критической и философской мысли, с лучшими образцами современной русской прозы стоит вровень.
Прочтём ли, заметим, услышим – сегодня, сейчас? Или станем ждать, пока выйдет-таки, через годы, ещё одна книга – уже об авторе, в серии «ЖЗЛ»?
Сюжет, кстати, не такой уж фантастический, как то может показаться всякого рода ироникам-скептикам – самовлюблённым сорнякам, считающим лишь себя украшением русской литературной нивы. Особенно если учесть «выпускную оценку», которую поставил В. Килякову его Учитель – строгий, предельно скупой на похвалу: «Василий Киляков – современный коренной русский писатель среднего поколения – уже зрелый мастер, тончайший психолог, мощной изобразительности… Выдающийся писатель, который в наше смутное время ставит на место всех «умственников», самодеятельных «гениев», тех, у кого нет и намёка на серьёзную жизнь…»
Так решимся ли мы взять на себя этот труд души, сумеем ли услышать обращённый к нам взволнованный голос «по-лобановски» честного публициста, критика, эссеиста - коренного русского писателя Василия Килякова?
Теперь выбор за нами.
_______________
* Киляков В. В. Ищу следы невидимые: художественная публицистика. – М. : Издательство «У Никитских ворот», 2024. 720 с.
Сергей ШУЛАКОВ
НОВАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ
Книга Василия Килякова – контекстуальный проект, своего рода отчёт, попытка осознать и предъявить себя в так называемой текущей литературе.
Следы, которые ищет Василий Киляков, не вполне не видимы. Их можно различить духовным взором, но иногда и обычными человеческими глазами. Первая часть книги посвящена учителю – Михаилу Петровичу Лобанову, пять десятилетий отдавшему обучению студентов Литературного института имени А.М. Горького, тем самым заложившего мощный фундамент литературы, критики, публицистики, на котором строится будущее, в том числе, и книга «Ищу следы невидимые». Василий Киляков рассказывает, что шёл в Литинститут, зная к кому и зачем – к Лобанову, на его семинар. Думается, судьба, предназначение здесь не при чем – Василий Киляков отчётливо понимал, чего хотел, а чуткий Михаил Лобанов разглядел в писателе одного из своих преемников.
Из осязаемых следов этого учения, общения – открытие памятной доски на новом Доме культуры в родном для Михаила Лобанова в рязанском селе Екшур. ДК, названный именем писателя и педагога, «освятил и благословил священник отец Геннадий Рязанцев-Седогин, один из учеников Лобанова. Есть в этом глубокий смысл, нечто провиденциальное: ученик-писатель освящает Дом культуры имени своего учителя. О. Геннадий Рязанцев-Седогин – Председатель Правления Липецкой писательской организации «Союз писателей России», протоиерей... (Я время от времени открывал в полутьме автобуса подаренную им книгу, читал первое, что открывала рука, читал из его нового романа: «“Становящийся смысл” – это строящийся храм, место на земле, через которое проходит ось мироздания». Ну и сама книга Василия Килякова, конечно, тоже весьма осязаема. В ней использованы документальные материалы, свидетельства из архива профессора Лобанова, подготовленные к печати в память о муже и наставнике Т.Н. Окуловой, хранительницей его рукописей
Автор этих срок несколько раз присутствовал на семинарах Михаила Петровича Лобанова, порой затягивавшихся до 23 часов, сверх всякого регламента, потому что мастер уделял внимание каждому ученику, подробно разбирая их, казалось, даже мелкие недочёты, стремясь к совершенству. И все же эти занятия предназначались для взрослых, состоявшихся авторов, внутренне готовых принять, высокопарно выражаясь, путь в целом, и конкретную помощь наставника, несколько подавлявшего своей мудростью и опытом. Этот путь непрост, по нему идут только «верные».
Тот, кто читал прозу Василия Килякова, знает: оптика и высказывание писателя могут травмировать, карябать и царапать личную идентификацию, мешать комфорту, напоминать о том, что полноценность жизни – это не один лишь кайф. Не хочется даже думать о том, как это даётся писателю, автору. Этот посыл облечён в классический, ровный литературный стиль, от которого трудно оторваться. Это сложная проза, не для тех, кто страшится оценивать и врачевать собственные нравственные раны и общественные язвы, но именно тем она и полезна. Но Василий Киляков – один из самых сильных современных прозаиков, по-настоящему добросердечный человек, который страдает от всякой несправедливости, не любит тех, кто потворствует злу и насилию, спешит поделиться своими суждениями (порой парадоксальными)… А потому дух иной раз захватывает от этой прозы. Таков писатель и в публицистике, которая, как известно, есть род литературы.
Будучи одаренным в литературном смысле в полной мере, восприняв мировоззрение учителя и традиции русской, советской классики, Василий Киляков может ответственно говорить об отечественной и о зарубежной литературе. Культура его литературно-критических работ весьма высока и очень определенна. Истинный профессионал в этом деле, Василий Киляков точно представляет себе современную «механику» восприятия текста писателя, и видно, что это его не радует. Он берётся спорить с западными философами и делает это убедительно: «Все рассуждения о том, что «мир абсурден» будто бы, что мир – «жестяной барабан» по Г. Грассу (по Камю, Шопенгауэру и так далее), «барабан» – вместо «трубы Иерихонской», и ему (вроде бы) нет до нас никакого дела, этому миру стихий и хаоса, – как нет дела ветру вешнему до случайной цветочной пыльцы, так полагать – было бы смешно и наивно».
Мы не скажем ничего нового, если констатируем, что Василий Киляков удивительно свободно оперирует с классикой. «В романе «Война и мир» Л. Толстого 559 героев, из них более двадцати основные, центральные, и за всех необходимо говорить, мыслить, проживать их жизни, осмысливать их трагедии. Автор – если он ответственно работает, просто вынужден «переселяться душой», вживаться во всех сразу и во многих в отдельности, в каждую судьбу созданных им персонажей, втираться в их отношения, обосновывать их дружбу или вражду, мотивировать их конфликты, их любовь и ненависть». Такое понимание есть признак способа собственной литературной работы. В случае с героями Василия Килякова – эксцентричными, неустроенными порой, неуживчивыми, часто с искалеченными судьбами – это вовсе непросто.
Литература того направления, в котором работает Василий Киляков, и его же художественная публицистика подтверждают: «духовная», «почвенническая», «классически-традиционная» – назовите как хотите – проза, очерки, из маргинальных, едва не заглушённых мощными государственными литаврами и коммерческой паралитературой 1990-2000 годов, постепенно, логично и неумолимо переходят в разряд элитарных. Даже тот, кто не является поклонником «самобытников», не может не заметить: за последние десятилетия самородные писатели остались в элитарном одиночестве. А «новые-молодые» стремятся изобрести что-то принципиально иное, а значит очень современное, о чем через год не вспомнишь, да и не хочется. Функционеры же и надутые медиа-идолы, «менеджеры» новой литературы не заметили, пропустили или замолчали тот момент, когда писателю снова стало важным просто быть услышанным. А литература, которая до поры сохранялась под спудом, ныне снова становится признаком возвышенного и расширенного, интеллектуального сознания.
«Так что же такое жизнь? В самом деле – «Луковка» Достоевского?». Ничего себе, вопрос. У каждого на него свой ответ или – нет никакого – за что не осудишь. И дальше сразу: «Но как же сурово, жёстко и безжалостно противостоит нынешний мир всем им, классикам нашим: и Достоевскому, и Лобанову, и Астафьеву, и Абрамову, и Распутину... И Бунину, и Куприну... И Льву Толстому даже! Этот «новый мир» противостоит всей нашей русской культуре…». Луковкой из притчи в «Братьях Карамазовых» о злющей бабе и ангеле-хранителе, который хотел ее вытянуть из огненного озера, куда её сунули черти за неимением добродетелей, кроме одной – она выдернула в огороде и подала нищенке; но луковка порвалась от её неизбывной злобы, даже посмертной, этой луковкой жизнь не ограничивается. К тому же, что толку тосковать по Золотому веку, по той сословной литературе и критике, письму богатых дворян и относительно бедных разночинцев, действительно значительному? Оно и без наших сетований вечно. Здесь Василий Киляков в определённой мере противоречит сам себе, своему же письму. Его книга – факт создания подобной укоренённой литературы и – одновременно описание этого факта. Не такая же ли «своего рода» «луковка»? Литература-то никуда не делась и воспроизводится – покуда есть такие писатели и критики, как Василий Киляков, бережно и благодарно воспринявшие преемственность наставников. Это род светского рукоположения в смысле искусства, оно накладывает определенные обязательства и ограничения. Не всякий с этим справится, нужно неколебимое внутреннее стремление. У Василия Килякова такое есть. А ещё он, – прикиньте? – способен думать и работать со словом.
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"