Размышления о творчестве Светланы Сырневой
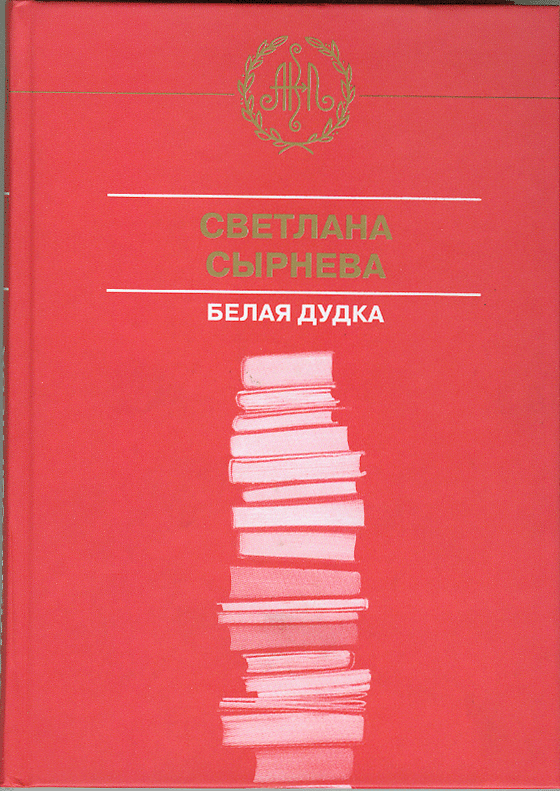 Здесь, понять всё сущее торопясь,
Здесь, понять всё сущее торопясь,
в ковылях бродя, застудясь в метели,
безотчётным слепком душа снялась
с неуютной русской своей колыбели…
Светлана Сырнева
Поводом к написанию этих заметок явилась новая книга Светланы Сырневой «Белая дудка», вышедшая в конце прошлого года в серии «Антология вятской литературы». * Разговор собственно о книге предварим несколькими словами общего характера, без которых – не обойтись.
В аннотации С. Сырнева представлена как известная русская поэтесса, лауреат шести всероссийских литературных премий. Всё это правда. Более того: Сырнева – член общественного совета журнала «Наш современник», на протяжении более чем двух десятилетий – постоянный автор этого журнала. О её стихах говорили, помогая им обрести широкого читателя, Николай Старшинов, Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и многие другие известные в литературном мире люди.
Казалось бы, чего еще желать? Однако не всё так просто.
Во-первых, стоит вспомнить о том, что начало творческой зрелости Светланы Сырневой пришлось на вторую половину восьмидесятых годов прошлого века. Это было время похожей на чуму горбачёвщины: страдающий нарциссизмом последний генсек КПСС, ослеплённый гордыней и лукавыми посулами Запада, торопливо закладывал взрывчатку под краеугольные камни самой российской государственности. Тектонические разломы – рукотворные, но от этого не менее страшные по своим разрушительным последствиям – грозили уничтожить не только былое пространство нашего Отечества, но само время Русской цивилизации: неразрывную духовную связь многих и многих поколений людей, веками составлявших основу страны, основу Державы. И молодая вятская поэтесса Светлана Сырнева не только не побоялась обозначить свою гражданскую позицию, но и сделала это с редкой художественной силой.
Из чего я росла-прозревала,
что сквозь сон розовело?
Скажут: обворовала
безрассудная вера!
Ты горька, как осина,
но превыше и лести, и срама –
моя Родина, самая сильная
и богатая самая.
Да, это те самые сырневские «Прописи» – ныне знаменитые. А тогда – просто вырвавшиеся из сердца горькие строки, угловатые и на первый взгляд кажущиеся не слишком связной лозунговой речёвкой, но – обнажено-честные, а потому способные обернуть к себе лицом любого изверившегося скептика.
В пеших далях деревья корявые,
дождь то в щёку, то в спину.
И в мои сапожонки дырявые
заливается глина.
Читаю – и от узнавания, от сопричастности обнажённой этой правды моей пусть заурядной, но единственной жизни - по спине зябкие мурашки ползут. Всей и разницы, что мои сапожонки черпали порой в колее через верх не глину, а изжиженный осенней хлябью да буксующими колёсами студёный воронежский чернозём... Это уже не просто художество, а – судьба.
Нас возьмёт грузовик попутный,
по дороге ползущий юзом,
и опустится небо мутное
к нам в дощатый гремучий кузов.
И не до истолкований художественного текста, если за ним видишь, сердцем, телом собственным помнишь замёрзшие на ветру руки – маленькой девочки («восемь лет мне»), её мамы – и твои, твои тоже!.. – руки, что судорожно вцепились в забрызганный грязью деревянный борт грузовика. Потому что юзящую, рвущую из мотора последние жилы попутку несёт боком по самому краю разбитого осеннего просёлка.
А вы-то, сограждане, отчего не «голосуете», не упираетесь плечом в борт?
Боитесь, застрянем? Так вытолкнем – всем миром-то, сколько раз уже такое бывало! Ну, а если не по пути…и жизнь это не ваша, и дорога чужая – тогда что ж, вопросов нет.
И эти три десятка строк тогда почти неизвестной поэтессы из русской провинции оказались вдруг тяжелее, весомее книжек целого сонма именитых литературных столичных приспособленцев, до седых волос кормившихся от государственных щедрот Страны Советов – и дружно откачнувшихся от своей кормилицы в трудную для неё минуту. Матерью-то они её, свою родину, видно, никогда и не считали.
«Прописи» явили отечественной словесности большого русского поэта, до конца определив творческую судьбу автора: быть поэтической плотью и кровью своего народа, его голосом и плачем, его волей и надеждой. Они же сделали Светлану Сырневу чужой (и не только творчески) для отступников и разрушителей, ищущих и уже нашедших для себя новых влиятельных покровителей, прильнувших к сытной кормушке – и, соответственно, для либеральных изданий и издательств. Потому первая московская книга – в два печатных листа, тетрадочного формата – вышла у Сырневой только в 2006 году, в основанной Союзом писателей России серии «Новые стихи». А выходившие до того в Кирове-Вятке поэтические сборники – тоже скромные по объёму, небольшими тиражами – стали радостью для немногих: большая читательская Россия их не увидела. И по сей день на всякого рода международных показушных действах – книжных выставках-ярмарках, днях культуры и проч. – Россию представляет назначенный либеральной тусовкой «новым русским гением» раскованный Тимур Кибиров, кто угодно из близких ему иронистов-«изощренцев», но – не Сырнева. Вот вам и завидная литературная судьба… И хотя принадлежность поэта к русской литературе, по счастью, определяется вовсе не властными «тётками» и «дядьками», совсем не помнить о вышеназванных обстоятельствах нельзя. Особенно когда речь идёт о судьбе поэта настоящего, большого.
Без хрестоматийных – и потому уже примелькавшихся, что ли – «Прописей» просто невозможно дать «картинку» того, что сделало Светлану Сырневу поэтессой узнаваемой, состоявшейся, необходимой многим и многим.
Именно из этого стихотворения выросли потом многие сильные, стержневые стихотворные тексты Сырневой: «Гибель Титаника», например. Однако «Прописи» – не есть вся Светлана Сырнева.
Да, обострённая социальность, сердечная забота о родной земле и хранящих её людях – важная, характерная, можно сказать, родовая черта русской поэзии. Но ею поэзия русская не исчерпывается, и не случайно в давнем споре её ценителей и исследователей Некрасову нередко противостоит Фет.
То, что С. Сырнева наследует первому, бесспорно; а вот второму? Так ли зорок её взгляд, так ли легка её рука, когда поэтическое перо касается чистой лирики? Несомненно.
Мне нравится не то, что чист
простор, куда ведёт аллея,
а то, что с крыши снег навис,
себя и ближних не жалея.
Ещё он стужей окружён,
но нынче капля камень точит.
Мне нравится, что он тяжёл
и упадёт, когда захочет.
Какие классически-точные, исполненные высокого смысла и щемящей поэтической тайны, тончайшей ковки лирические строки! Впервые прочтя их, я долго не мог успокоиться. Глядел в заоконную темноту, ходил по комнате, вздыхая от невозможности с кем-нибудь поделиться этим прозрачным, тихим чудом. И только Афанасий Фет, стоя в своих поэтических откровениях у края зимней аллеи (помните? где позёмки, как серебряные змеи), наверное, понимающе и сочувственно качал мне головой... После этих строк (конечно же, не единственных) назвать Светлану Сырневу поэтом одного стихотворения (одной темы) – язык не повернётся.
Диапазон сырневских творческих исканий в рамках классической традиции столь широк, поэтика столь самобытна, а мироосмысление столь глубоко, что впору говорить о некоем феномене осознанного укоренённо-природного русского стоицизма. О явлении, которое я бы рискнул назвать «лирическим стоянием у колыбели» – по аналогии со знаковым стоянием русских войск и их супротивников на реке Угре.
Люлька, зыбка, колыска…
В строках, вынесенных в эпиграф этих заметок, ключевыми являются слова «здесь» и «колыбель». Определённость понятия «здесь» сомнений не вызывает.
Что же такое сырневская «колыбель»?
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова даёт два общепризнанных значения этого слова: род небольшой кровати, в которой укачивают ребёнка; место возникновения чего-нибудь (колыбель свободы).
Мне же сразу вспоминается родительский дом. Горница, где в выпирающую из невысокого потолка матицу вбит самодельный, выкованный местным кузнецом-умельцем штырь с вращающимся металлическим кольцом. Прежде, когда в доме были малые дети, к этому кольцу крепилась перевязь, а на ней – лёгкая деревянная ладейка – люлька, зыбка, колыска: у неё много корневых, народных названий, и все правильные, точные. Эта покачивающаяся крохотная рукотворная вселенная и была колыбелью; и таких вселенных, то уносящих дитя в перехватывающую дух высь неведомого мира, то счастливо возвращающих к материнскому теплу и свету, немало было в то время в деревенских домах...
Почему-то кажется, что начало колыбели-образа, метафоры, которая постоянно присутствует в поэтических текстах С. Сырневой – оттуда, из её деревенского детства. Оно у неё, как признаётся поэтесса, «грубого помола», его трудно назвать безоблачным, но именно там начало того бесстрашного и терпеливого света, хранящего, ведущего её душу.
Скачет телега по стылой стерне,
стоя отец погоняет коня.
Мама в слезах наклонилась ко мне –
это в больницу увозят меня.
Чёрные ветки по-над головой,
С ними луна затевает игру.
Грех вам! Ребёнок-то еле живой…
– Милая мамочка, я не умру.
Как вам досталось, родные мои:
Холод, болезни детей, нищета.
Только и было, что ноша семьи,
только и было – и жизнь прожита!
Это древнейших времён ремесло –
дыры латать у скупого огня –
к вам от родителей ваших пришло,
и через вас просочилось в меня.
Там, в тех далеко оставшихся годах, наследство, которое не износить – и от которого нельзя отказаться.
Где бы знатное выбрать родство –
то не нашего рода забота.
Нет наследства. И нет ничего,
кроме старого жёлтого фото.
…
И колхозы, и голод, и план –
всё в себя утянули, впитали
эти чёрствые руки крестьян,
одинакие чёрные шали.
Как же отречёшься, как бросишь всё это – пусть «в наших лицах никто не найдёт даже самого малого сходства»! Эти люди, уже ушедшие тихо и безропотно, «не прося ни любви, ни награды», оставили своей наследнице не так уж мало – скупое тепло своей жизни, воспоминание о себе: «за подолы цеплялась у вас, на коленях беспечно сидела»... Поразительно: на скудной почве полунищенскского существования, в забытой богом глуши явил себя миру не чертополох укора, но «трава молодая» некрикливой, светлой и жертвенной любви к родной земле, к горькому своему Отечеству.
В безнадежно-безрадостном тысяча девятьсот девяносто шестом году написано Сырневой стихотворение «На картину А. Веприкова «Синь и золото»:
Корка хлеба ржаного, стакан молока –
и от этой ничтожности сытость была,
словно чья-то не зримая нами рука
клала что-то ещё на пустыню стола.
…
Нет в России пустот, позабытых полей,
всё надстроено здесь до великих твердынь.
И на месте пропавшей деревни моей –
синь и золото, Саша, берёза и синь.
Видно, так и завещано нам выживать
на холодной земле, на пожухшей траве –
извлекать из пустот, в пустоте вышивать
по начертанной Богом незримой канве.
Журавлиная к Северу тянется нить,
отступает зима, торжествует весна.
И щедрот иноземных к нам некуда лить,
ибо чаша была и осталась полна.
О, сколько найдётся их, доморощенных поборников «цивилизационных ценностей», готовых смешать автора этих строк с размокшей просёлочной глиной за смертный, с их точки зрения, грех: идеализацию «этой», чужой им страны «пустот» и «позабытых полей»!.. Хотя они тоже, вроде бы, отсюда – но родину свою с младых ногтей не возлюбили, а возненавидели. Их, живущих желчным уязвлённым умом, ищущих во всём выгоду-потребу, доводит до бешенства одно предположение, что возможно «в пустоте вышивать по начертанной Богом незримой канве»; пугает проклятый «особый путь», кондово-квасной; повергает в ужас классическая тютчевская заумь, проросшая на иной уже, русско-советской почве... «Эта страна» – нищая, полудикая, деспотически-рабская – и вдруг «чаша была и осталась полна»?
Как же понять им Светлану Сырневу с её двуединым чувством глубинной, корневой причастности к родной земле? Которая – не просто питательная среда для биологического произрастания («быт»), но и – духовная опора, мучительная, нерасторжимая связь с сокрытым в ней и вовне: с памятью, с ширью-простором, с высью, знобящей и влекущей душу («бытие»)... Как же вместить в зашоренное сознание, что всё это – и «быт», и «бытие», – даже в драматическом соединении, в трагическом изломе, может оставаться пусть и неуютной, но – колыбелью?
Именно колыбелью – тем миром, настолько родным, что душа живая, приникая к нему, вжимается в него так сильно, что снимается «безотчётным слепком».
Поэтический мир Сырневой, исполненный тайны, объёмный, многомерный, почти никогда не находится в покое. Статичность – даже в созерцании, тихом, идущем от «поляны в бору» и «муравейника в овраге» – чужда ему. Этот мир тревожен, и та же незримая рука, что кладёт что-то на пустыню стола, не позволяет ему забыться, застыть, постоянно «раскачивает» его.
Лето в разгаре, и странен союз
солнца и холода. Сердце щемит.
Вздрогнет под ветром черёмухи куст,
вытянет ветви и прошумит.
Клонится бледный берёзовый строй,
Кроны трепещут, свиваются в жгут.
Шелест и шум по равнине пустой
ходят – и места себе не найдут.
В другом дне, «перед закатом», где деревни, «затаённые в тени», колокольный звон и «эхо навстречь», уже и без ветра «так от края до края легко раскачнулась равнина земли». А там, где «утро да стебли сухого бурьяна», где «в поле убогом, в разливе тумана стая гусей не спросясь ночевала» – проступает, задевает душу ещё один образ-символ:
Долго взлетали и долго кричали,
прежде чем в серое небо подняться.
Воздух тяжёлый собой раскачали –
ходит и ходит, не может уняться.
Итак, раскачаны все основы, «равнина земли» и «воздух тяжёлый», дольнее и горнее... А то «вещно-земное», за что в первую очередь цепляется сознание представителя «общества потребления» – личное преуспеяние, почести, слава – прописано в нём скупо и размыто, каким-то едва различимым сумеречным фоном. Наверное, в таком мире ему жить страшно. А лирической героине Сырневой в этом мире – да, тревожно, знобко порой, но – не страшно. Может быть, потому, что в этом непокое, в этой «раскачанности» заведомо ненужным видится всё мелкое, суетное; и в то же время проступает крупно, становится понятным – главное, необходимейшее.
Разумом здрав ли, нормален ли тот,
кто этой скудности счастьем обязан?
Поздно гадать, ибо сей небосвод
серым узлом надо мною завязан.
Это и есть главное. И это снова – колыбель. Крохотная зыбка из деревенского дома, выросшая до размеров Вселенной. И не важно, что перевязь колыбели завязана «серым узлом». Он, этот серый узел, куда надёжнее других, более броских и изощрённых. Колыбель раскачивается, холодя грудь, но мне не страшно: тронута она, раскачана милосердной и милостивой рукой. Потому-то, наверное, и колыбельная – такая необычная! – которую поёт Светлана Сырнева дорогому ей маленькому человеку, тревожна, но притом по-русски оптимистична, победительна:
Пусть перед ветром земля распласталась –
спи, моя дочка, бесстрашно: на свете
нам колыбель неплохая досталась,
дом наш качает неистовый ветер.
Они сделаны очень надёжно, эти хрупкие вещи: зыбка, дом, «равнина земли», «тяжёлый воздух». Все они – источники одного понятия, одного смысла, одного образа – колыбели. В мире, созданном Светланой Сырневой, у них очень прочная перевязь – сердце поэта. Эта перевязь никогда не перетрётся, не ослабнет, не уронит дорогую ношу…
Свой путь
Можно ли говорить, как отмечают некоторые исследователи, о «пушкинском начале» в поэзии Сырневой? Наверное. В книге «Белая дудка» есть целый цикл, который так и называется: «Стихи, посвящённые Пушкину» – более двух десятков стихотворений…
Мне же за непокоем сырневских строк видится пусть и отдалённое, но – лермонтовское. Не только и не столько ставший классическим образ паруса, сколько – взгляд, ощущение пространства («Выхожу один я на дорогу»).
Поле безлюдное, полдень и зной,
тихие, чуткие шелесты ржи.
Чудится: в поле, где нет ни души,
кто-то присутствует рядом со мной.
Словно бы тонкий навес из стекла
в небе незримо откинут – и вот
объединился с землёй небосвод
или протока меж ними прошла.
Или – это:
Затеряна в кругу светил
твоя заветная звезда
и неземным потоком сил
упорно движима всегда.
…
Как бы невидимой рукой
от сердца камень отвели –
стоит торжественный покой
столпом от неба до земли.
Порой строки поэтов разных времён, как кочующие гусиные стаи, пролетают в ночи так близко, что слышен их переклик.
И никто не сможет, как бывало,
оттолкнуть меня или обидеть.
Не сама ли я порой мечтала
умереть, но из могилы – видеть?
(«Я б хотел забыться и заснуть»)
Но даже здесь, в этом надмирном звёздном покое, голос сырневской стаи – той самой, что умеет раскачивать «тяжёлый воздух» – ясно различим, его ни с каким другим не спутаешь.
Видеть – да. Но не качели эти
в их размахе вольном и счастливом,
И не то, как налетает ветер
в белый сад, парящий над обрывом.
И снова – «раскачанный мир», и «широким маятником ходят праздничные лёгкие качели». И снова перехватывает дыхание, теперь уже не от всегдашней неизбывной тревоги, а от совсем иного чувства. Оно похоже на безотчётное, пронзающее чувство счастья, которое испытывает дитя, несомое колыбелью из высшей точки своего махового движения – вниз, к материнским рукам.
И мятежный лермонтовский дух не тревожит, не зовёт за собой Сырневу. Потому что знает: у неё – свой путь.
«Да спасётся моя сторона…»
Путь русского поэта, вне зависимости от того, долог он или короток, прям или извилист, всегда – к России.
Я хотела тепла, я построила дом,
где, быть может, всё лучшее мы сохраним.
Но окно запотело, подёрнулось льдом,
и озябшей России не видно за ним.
Женское, материнское начало зримо проступает в поэзии Светланы Сырневой: дом, тепло, колыбель... Притом что лирическая героиня стихов Сырневой – русская женщина. А это – дорога трудная, судьба особая.
Выдаст тебе родина суглинная.
Вывесит у колыбели самой
Право быть печальною рябиной,
Право быть бессильной и упрямой.
Судьба эта предполагает не то бессилие, что сидит, уронив руки, чужое и разуму, и чувству. Здесь – кротость держит за руку тихое мужество, и вместе они хранят не только внутреннюю свободу, совестливость, личное достоинство, но и – род, родину, страну.
Сгодится Отчизне в тот час её черный,
когда ни сказать и ни крикнуть иначе,
как только лишь выпрямить стебель упорный
и, молча поднявшись, себя обозначить.
Трава – да хоть этот «цветок узловатый и горький – цикорий, цветущий, как небо в решётках острожных» – не океан, не тайга, не горы. Её трудно представить какой-то системообразующей, значимой силой. А вот у Сырневой трава, «чей короток век, но выносливы корни», так естественно, ненатужно вырастает до неотменимого поэтического символа, олицетворяющего не только личную, женскую судьбу, но само существо, сам смысл русского духа. И у читателя не возникает и тени сомнения в том, что каждое слово этой поэтической декларации обеспечено золотым запасом терпения, страдания, стойкости, укоренённости автора этих строк в родном, неизбывном. Потому как сонму сомнительных «естественных прав» здесь спокойно и осознанно предпочтено одно, такое понятное и непридуманно-естественное «право прожить с травой наравне – и ни в чем не раскаяться».
И, припоминая стихотворение «Село Совье», вслед за автором повторяю: «да спасётся моя сторона за разливом оврагов и рек», веря в защитительную, спасительную силу нелукавого, судьбою выношенного поэтического слова. А не верящему, но жаждущему покорить этот «край дремучий», где «только лес за верстою верста, над обрывом цепочка огней» – «знамо, лучше вернуться ему на избитые тропы земли, а не ждать в налетевшем дыму, чтоб от Совья ключи принесли».
«Грозные образы ада и рая…»
Среди моих коллег-литераторов, в большинстве своём людей нововоцерковлённых, стало нынче чуть ли не правилом хорошего тона прежде, чем говорить о творчестве того или иного автора, приложить к нему некое лекало: крещён ли, крепок ли в вере православной, причащается ли, исповедуется?.. Мне же это представляется, мягко говоря, не вполне оправданным. Оно ведь как бывает: иной и верует ревностно (честь ему и хвала), и в стихах через слово елей да ладан, а в поэзии-то – ни блёстки, ни шлиха самого завалящего. Как тут говорить о творчестве всерьёз, без скидок на «пролетарское происхождение»?
У Светланы Сырневой нелепо было бы спрашивать, ходит ли она в храм: её поэзия православна по своей глубинной сути. Она совестлива и честна, чиста и милосердна, умеет повести уставшую от невзгод земных душу к терпению и мужеству, к надежде светлой. И при этом – по-матерински участлива ко всему тому, что, формально находясь за пределами христианского вероучения, по сути ему очень близко, родственно.
Вот стихотворение «Фельдшер», написанное совсем недавно, в 2008 году. В отличие от большинства сырневских стихотворений, оно сюжетно. В нём старенький фельдшер приходит к развалинам здания – прежде господского дома, потом, после революции, переоборудованного в больницу. Здесь прошла его жизнь. Вся она – тихое, похожее на послушание, служение: больные, раненые, только на него и надеявшиеся беременные деревенские бабы, весёлые дети, родившиеся здесь. Служил честно, достойно, «кровью к земле прикипая». Но – «нынче никто не содержит такие в нищей деревне большие больницы». Что верно – то верно: нынешняя наша сельская медицина всё больше напоминает шагреневую кожу. По сути, старик-фельдшер, подвижник и стоик советских времён, стоит у развалин своей жизни. И – на контрасте – парадоксы существования этой самой нищей деревни:
Если ты хворый – ступай себе в город,
катятся к городу автомобили.
А за околицей, у косогора
церковь покрасили, восстановили.
На первый взгляд, противопоставление «церковь – больница», причём не в пользу первой. Но церковь вовсе не мешает ни автору, ни его герою: «Тянутся к ней просветлённые лица, скованный дух обретает свободу». И вместо домысленного противопоставления само собой приходит, проступает – настоящее, острой кромкой своей больно задевающее душу. Есть церковь, есть старость, униженная и одинокая, но – «старенький фельдшер не ходит молиться». Почему? И вот уже – вне воли автора, но вполне вписываясь в логику и лексику нынешних мировоззренческих дискуссий – слышатся мне сердитые сторонние голоса:
– Атеист!
– Богоборец!
– Совок…
Полноте, господа-товарищи: суть всегда глубже поверхностного, наносного, митингового. Верный ответ высвечивает точная поэтическая строка. И он настолько же неожидан, насколько и естествен, правдив: этот проживший долгую и трудную жизнь человек не ходит молиться потому, что «он о себе не заботился сроду». К тому же – надо понять, почувствовать: говорит это, что «он о себе не заботился сроду» – вовсе не автор, а молчаливый герой – устами автора. Это его, героя, самоощущение (не самооправдание!), своего рода внутренний монолог, услышанный автором. И автор не осуждает своего героя:
Разве душе, изгоревшей до края,
легче или тяжелее бы стало?
Грозные образы ада и рая
блекнут пред тем, что она испытала.
Кто вправе укорять, винить, судить этого старого фельдшера с «изгоревшей до края» душой, а с ним и сотни тысяч соотечественников, живших «кровью к земле прикипая» и стоящих сейчас у развалин – не идеологии, не мировоззрения – но самоотреченно вынянченной ими, спасённой ими, поднятой из руин страны? Несбыточные идеалы, жизнь во имя «светлого будущего», «раньше думай о Родине, потом о себе» – да, это всё они, они. Несчастные? Заблудшие? Упорствующие в своей слепоте? Я так не думаю. И у этой моей убеждённости, помимо аргументов глобального, исторического порядка, есть ещё один – личный.
Там, среди них – мои родители; неужели кому-то кажется, что я могу отвернуться от них, отречься? У людей, родных нам не только по плоти и крови, но и по духу, по нравственному стержню, по боли за страну – своя правда, своя дорога, и их «вехи дорожные чести и долга» – разве мешают они кому идти своим путём по заповедям Христовым?
Автору же, за столь милосердное, истинно христианское понимание, за глубокое художественное постижение счастливо-трагической судьбы целых поколений наших сограждан (и моих близких в том числе) – благодарное слово и низкий поклон. За стихотворение «Фельдшер» с непритязательным, вроде бы вполне прозаическим сюжетом...
Избранное: новый взгляд
Ну и, в заключение, несколько слов о самом литературно-художественном издании.
Книга «Белая дудка» объёмна – 287 страниц, хорошо издана – строго, без излишеств в оформлении, в классической издательской традиции, снабжена подробной библиографией. Ссылка на то, что библиография составлена по материалам краеведческого отдела Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена, свидетельствует о весьма отрадном факте: умеют, видно, на вятской земле ценить своих художников слова. В апреле 2011 года на Кировской областной книжной выставке, в которой приняли участие более восьмисот книг различной тематики, изданных в 2010 году, Светлане Сырневой был вручён диплом в номинации «Лучшее художественное издание» за книгу «Белая дудка», а автор назван «Поэтом года».
При этом заметим, составил книгу воронежец, известный литературный критик Вячеслав Лютый, им же написана и открывающая издание вступительная статья. Выбор составителя не случаен: В. Лютый – один из самых глубоких профессиональных исследователей творчества С. Сырневой. Внимательный читатель без труда заметит, что составителю удалось выразить собственное тонкое понимание сырневской поэзии даже в композиции книги. Отказавшись от распространённого хронологического принципа, Вячеслав Лютый объединил избранные стихи разных лет в три раздела: «Родня», «Город» и «Чаша». Причём каждый последующий раздел как бы вырастает из предыдущего, а основа всему – «родня», родная русская почва. По сравнению с другими изданиями в «Белой дудке» значительно расширен состав избранных стихов, не в ущерб их качеству.
Именно составителю мы должны быть благодарны и за включение в книгу романа в стихах «Глаголев», который после журнальной публикации ( 1997 г .) долго – и совершенно незаслуженно – оставался в тени, в книгах не публиковался. Роман этот, представляющий собой своеобразный срез времени (и – творческой среды провинциального города), вправе рассчитывать на более счастливую читательскую судьбу.
Итак, книга состоялась... Глубокая. Сильная. Честная. Для русской поэзии – неотменимая. Без неё вряд ли написались бы эти заметки – да, небесспорные и субъективные. Но не зря же кем-то сказано, что отношение к поэзии ничем не отличается от отношения к женщине: или она тебе безразлична, или – без неё просто невозможно жить…
01.06.2011
* «БЕЛАЯ ДУДКА». – Киров: О-Краткое, 2010 (Антология вятской литературы, т. 13).
|
Комментариев: |