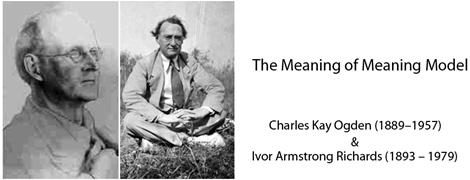| Вадим ЦАРЁВ профессор, канд. философских наук, член СП России ГИПОКРИТИК МАКЛЮЭН Происхождение манеры Кто для нас выше Конта и Дидро?
Некоролевский выбор: утонуть в цитатах
Его манеру письма можно назвать инкрустационной. Или витражной. Часто - очень часто – он брал осколки чужих текстов и вправлял в тексты собственные. Это напоминает об известной остроте: учёный американец цитирует, вместо того, чтобы рассуждать.[1] Вроде бы есть основания заподозрить и М. Г. Маклюэна в умственной лени, в желании поживиться за чужой счёт. Или в свойственной научной братии накрутке объёмов. Но дело, думаю, в другом. Не в иждивенчестве. И не в американском типе учёности (в данном случае, учёности канадско-британской). Сквозь маклюэновские витражи брезжит нечто странное. Что-то вроде иронии с перегибом в пародию. Если всматриваться, открывается непростое отношение к академическому этикету. Лёгкая как ветерок неприличность в соблюдении приличий. Возьмём цитирование. Цитаты обычно обозначены, но представлены так, что в них проступают смысловые оттенки порою далёкие от смыслов первоисточников.[2] Иногда рядоположными оказываются взгляды, изначально негармоничные. При таком, приютском, общежитии мысли словно теряют родовые приметы. Сиротеют, ведь именно приюты доводят сиротство до конца. Случается, в текстовом фрагменте присутствует лишь намёк на какое-нибудь внешее авторство (классическое присутствие на грани отсутствия). Так, в «Противовзрыве» («Counterblast») Маклюэн, в подтверждие своих построений предлагает что-то вроде таблицы:
Сводка из «Counterblast»[3] и тонка, и по-своему звонка. И непрозрачна. Тонкость (и непрозрачное озорство) тут в том, что ключ к игре смыслов находится не в самой брошюре Маршалла Маклюэна 1970 года, а в работе Освальда Шпенглера начала ХХ века: «Индус забывал всё, египтянин не мог ничего забыть»[4]
Указание на немецкого философа из комментария выпало: так что мы имеем дело не с безыскусной протокольной отсылкой, а с игровой отсылкой по принципу sapienti sat. Обыгрывание протокольного языка выражается и в том, что в приводимых разъяснениях не видно прямых следов розыгрыша. Но да будет стыдно тому, кому не видно. Касательно книги «Counterblast» автор-составитель со всей прямотой не советует искать в ней противовзрывности (counter - против, противо; blast - взрыв, вспышка). Это, мол, лишь перекликличка с журналом «Blast»[7], два номера которого были выпущены в 1914 г. тандемом Льюис-Паунд и отличались, кстати, уникальными полиграфическими качествами (набор был сделан наборщиком-алкоголиком, извлечённым Льюисом из лондонских трущоб). Однако в названиях «Blast» и «Counterblast» некая затейливость всё-таки присутствует. Если принять во внимание следующий опосредованный переход: через бластулу (стадия развития зародыша) и бластодерму[8] далее к «Germ», прерафаэлитскому изданию, которое принято считать первой (зародышевой) формой авангардистского журнала. И если учесть сквозное у М.Г.М. сопоставление эксплозии и имплозии (двух видов взрывов, соответственно: разбрасывающего и собирающего). Помните представление, устроенное публике ассистентами мессира Воланда? В котором все могли принять горячее участие? В представлениях для читателей Маклюэна, тоже можно было поучаствовать всем, но участие предполагалось не горячим, как в приснопамятном «Варьете», а по преимуществу холодым[9]. Фокусы бригады из преисподней вызывали восхищение, но не допускали разоблачений. С приёмами Маклюэна дело обстоит немного иначе. В маклюэновские построения, пробы, вовлекались вперемешку и естествознание, и литература, и разные искусства – вместе с соответствующими науками. В этой мешанине[10] существовал ранжир. Научные цитаты вводились без особой заботы о строе и духе первоисточников. Естествознание под рукой М, словно отвечая за свой базар, принимало на себе последствия естественнического же принципа fiat experimentum in corpore vili (ставь опыты на малоценном). Наоборот, художественный и околохудожественный материал использовался куда более тонко, даже, я бы сказал, проникновенно: не только для оживления сухой теории, но и для тихих намёков на негромкую подоплёку. Раз за разом обстоятельства художественной и литературной жизни становились для МГМ побудителями ключевых суждений. Вот почему обращение к маклюэновской авторской индивидуальности естественно начать обзором связей, которые задали, продвинули и одновременно ограничили его возможности как литератора. Некоторым осведомлённым, равно как и некоторым неосведомлённым, известны изречения Стиль это человек[11] и Язык это судьба (Юнгер[12]). Между приведенными суждениями есть смысловая связь. К ней немало лет назад попытался приблизиться и я.[13] Мне и сейчас хочется разобраться с собой посредством тогдашних наводок, но так как ходить бывает склизко по камешкам иным, оборочусь, в основном, к Маршаллу Херберту Маклюэну. Стилистика нашего самопредъявления urbi et orbi отражает свойственные нам глубинные особенности: первую, вторую, последующие натуры[14] в их изменчивом постоянстве и постоянной изменчивости, наш отклик на воздействия окружения, т.е. всё то, что задаёт границы и грани умострою. Жизнью Маклюэн, как и мы все, полностью обязан своим родителям. Им же он отчасти обязан и своими привычками. Его отец, Нерберт Эрнест, служил в армии, потом стал страховым агентом. Принадлежал к методистской церкви. Будучи разъездным человеком, он не был главным воспитателем двух своих сыновей. Маршалл (таково было обиходное мужское имя в семье Маклюэнов) называл отца carpetbagger-ом. Буквально саквояжником. Саквояжник – звучит как кличка. Когда-то южане так называли северян-янки. До сих пор это общеамериканская дразнилка коммивояжёров. Мать Элси Наоми Маклюэн - в девичестве Холл - преподавала в школе. Причём, в баптистской. После перемены участи сделалась актрисой. Что общего между армейским служащим, разъездым агентом, членом методистской общины, учительницей, баптисткой, актрисой? Ответ: всем им приходилось работать на публику, от этого впрямую зависел их деловой успех. Другими словами, им приходилось носить маску. Разъезды и сцена родительский брак вряд ли укрепляли. У Маршалл Герберта семья была крепкой. Они с женой Коринной поставили на ноги шестерых детей: Эрика, двойняшек Мэри и Терезу, Стефани, Элизабет и Майкла. Между прочим, Коринна Маклюэн (в девичестве Льюис) до замужества тоже была учительницей. И тоже мечтала о сценической карьере. Слава богу, мечта не сбылась. Тут в связи с божественностью уместно отметить обращение молодого Маршалла в католичество (1937 г.). Неофит получил знак от самой Девы Марии (свидетельство самого обращённого). Сын Эрик стал душеприказчиком отца, публикатором маклюэновского наследия.
Ещё одна цепочка обстоятельств. Поздняя, печальная и, возможно, роковая. В 1967 году у Маклюэна удалили мозговую опухоль. В 1977 г. у него был инсульт: речь нарушилась, да так полностью и не восстановилась. Известно, что та или иная степень афазии связана с функциональной ассиметрией мозга. Мозг состоит из двух полушарий, распределение задач между полушариями у праворуких людей таково: левое отвечает за связную логическую речь, правое – за восприятие образов и образотворчество (у левшей всё зеркально). При необходимости одно полушарие берёт на себя работу другого, но не без потерь. Лидерство правой части мозга ограничивает логически-речевые возможности. Преобладание левой части суживает способность к образотворчеству. В наследии М.Г.М. не так уж много развёрнутых, логически связных текстов: в основном он публиковал витражированные статьи, рефераты и книги. Эти публикации, после самой первой, «Механической невесты» (1951), были похожи не на трактаты, а скорее на составные панно. Логические импровизы в виде плавных словесных потоков Маклюэн приберегал для самых важных случаев. Обычно это были литературоведческие штудии. Или беседы в такой обстановке:
Лекции зачитывались им строго по писаному. В последние годы жизни М.Г.М. не делал собственноручных записей: всё предназначенное к опубликованию, надиктовывалось жене или дочери. Ещё две детали. Маклюэн с молодых лет коллекционировал живопись. Художников ценил, а тех, что иллюстрировали его книги, он с неизменным пиететом брал себе в соавторы. Правополушарность? Людей с правополушарным домининированием отличают депрессивность и пессимизм. Как же тогда понимать пресловутую веру Маклюэна в светлое технологическое будущее? А была ли такая вера? Её могло и не быть: отрицательное внутреннее состояние хорошо уравновешивают, порой даже излечивают внешние манифестации с противоположным знаком.
«Зарубежная культурология, - читаем в одной публикации, - пользуется следующей типологией культуры: народная, высокая, элитарная, массовая, популярная». Здесь речь идёт не о каких-то фикциях, а о реальных явлениях, в «точках соприкосновения создающих и свои самородные идеи, и свою особенную продукцию»[17]. Маклюэнизм, если признать этот перечень достаточным, должен поместиться либо в границах одного из перечисленных типов, либо оказаться на их стыке (в результате перекрёстного опыления, говоря по-маклюэновски). Вторая из указанных возможностей создаёт классификационные затруднения, которие усугубляются расщеплением феномена Маклюэна на персональную, феноменальную и консумальную составляющие. Маклюэн во-первых, производитель культуры, во-вторых, ее потребитель а, в-третьих, он ее, так сказать, потребляемое. Первое и третье – маклюэнизмы, но маклюэнизмы разные по своей природе: один маклюэнизм вырос из средств духовного производства в их авторском освоении, другой собрал в себе данности распубликования, совместившие последствия как прямого, так и превратного потребления. Между одним и другим – недоступная полному раскрытию двойственность авторского Я , выраженная в том числе и в личинности (самоукрывательстве под той или иной маской), обусловленная не только потребностями самовыражения, но и инстинктами их защиты, побуждающими к конспирации и мистификациям. Эти три ипостаси одного явления не обязательно союзничают между собой. Больше того, они могут соперничать и даже враждовать. Именно так, сотрудничая и соперничая, маклюэнизмы уживаются друг с другом. О том, как М.Х. Маклюэн сам себя и для себя потреблял, судить нелегко, если вообще возможно. Тем более, что он в меру своих сил усугублял затруднениям распознания, поигрывая с читателем в кошки-мышки, а то, бывало, и прищипывая кое-кому нос с улыбкою чеширского кота. Поигрывать на малоценном, играя для ценителей – так было принято в кругу, к которому он хотел принадлежать. Впрочем, не только в том кругу и не только в то время[18]. И всё-таки разобраться с маклюэновскими привязанностями и привязками, с его ритуалитетом, подняться, так сказать, до некого градуса посвящённости, не принадлежа к соответствующей ложе – задача не совсем безнадёжная.
К картинке в стиле поп-арт Маклюэн пририсован не как случайный теоретик из провинции, но как нужный участник авангардистской тусовки. Впрочем, случайных от неслучайных на уороловских духовитых (благовония) празднествах духа не очень-то отличали: «На 47-й стрит можно было встретить чуть ли не весь Нью Йорк. Деятелей новой левой и донов мафии. Знаменитостей артистического мира – Монтгомери Клифта, Джуди Гарленд, Теннесси Уильямса, кураторов картинных галерей, богатых собирателей и торговцев поп-артом. Писателей и уличную шпану. Бородачей студентов, увлекшихся революцией. Поставщиков героина. Добропорядочных средних американцев...»[22]. Участвовать в жизни авангарда ещё не значит к нему принадлежать. Тем не менее, допустим, что Маклюэн был авангардистом Авангард – это какая культура? Народная? Ой ли?! Тогда, может, массовая? Разберёмся: во-первых, Маклюэн - уж точно не народник, во-вторых, он хоть и затейник, но не массовик. Мальстремически[23] покорствуя наличным раскладам, таким, например, как массовизация поддельно-высокой культуры, от души он их, тем не менее, не приветствовал. Отмечал, но не привечал. «Культуру – в массы, массы – в культуру!» - это не его. Говорят, публично благодушествуя в отношении телевидения, сам он этого робкого гиганта в свою личную жизнь почти не допускал. Исторические периоды лавинного преумножения культуры и, соответственно, взрывного увеличения культурного давления порождают в людях двоякий отклик. Точнее, троякий. Радикалисты порываются сбросить тяжёлую ношу и обрести лёгкость бытия в возвращённом пушистом прошлом (это пассеисты) или в избавленном от несовершенств будущем (это футуристы). Мальстремисты едины в выработке доверия к бытию и попытках приспосабливать не перемены к себе, но себя к переменам. Конечно, культура это и картины, и куртины. Но, прежде всего, культура это её прямоходящие, двуногие, лишённые перьев носители. Люди, по Аристотелю. Народ. Поэтому и радикалисты, и мальстремисты определяясь по отношению к окружающей действительности, в первую голову определяются по отношению к окружающим людям. Об Аристотеле. Он был мальстремистом из принципиальных соображений - гносеологических, онтологический и прочих подобных. В жизни же, эмпирически, это был тяжёлый неуживчивый человек, не очень-то снисходительный к близким и дальним. Своего наставника Аристотель - терпимый из принципа, добрый к ойкумене вообще - лягал как жеребёнок матку. Наставник Аристотеля именовался Аристоклом, а звался Платоном. Платон как раз классический радикалист, увязавший в своих построениях пассеизм с футуризмом. Однако суровость этих построений приятно контрастировала с аристократическим терпением и мягкостью их творца в бытовом общении. Видимо, Платон был компанейским человеком, что и определило приятную застольную форму его философических шедевров.
«Платон, ты мне друг, но истина в вине». Ни та, ни тем более, другая часть слогана не принадлежат Аристотелю. Источник - «Жизнь Аристотеля» египтянина Аммония Саккаса (III в. н.э.), где цитируется Платон: «Сократ мне друг, но истина - больший». Саккас попытался устранить нестыковки между платонизмом и аристотелизмом. Так родился неоплатонизм, а сам Аммоний показал себя практикующим мальстемистом. Заметим как легко на фоне вечности лояльность и радикальность сливаются друг с другом. Moralité: радикалист по принципиальным соображениям может быть совершенным мальстремистом по жизни, а принципиально мальстремичная особь вдруг оказывается радикально нетерпимой в практическом применении. Запомним это, возвращаясь к доктринальному мальстремисту Малюэну. Так каким же было отношение М.Г.М. к народу, народности, народному? У эллинов народ демос; Δήμος. На на языке квиритов – Populus. По-английски народ – это и people (нация) и common people/folk/lower classes (простой народ). Обозначение популярная культура относимо не ко всей национальной культуре, а к её составляющей – упрощённой культуре простых (правильнее - рядовых людей). Начнём с того, что профессор Маклюэн выходец не из простонародья. Он выдвиженец из среднего класса, отошедший от своей исходной страты тем больше психологически, чем менее социально. Такие люди, как он, поднявшись по общественной лестнице, добившись некоторого общественного признания, обычно испытывают привязанности скорее к тому, к чему пришли, нежели к тому, от чего ушли. Выражаясь высокими околичностями: любить популярную культуру и сердечно ей принадлежать у Маклюэна не больше оснований, чем у Моисея - любить культуру египетскую. Элитная культура закономерно самоосуществляется через зарождение, расцвет и увядание всех её органических составляющих (почему элитное не обязательно высокое). Эта культура создаётся исключительно теми, кто неповторимо и незаменимо одарён, т.е. немногими. И достоверно воспринимается она только близкими по духу, т.е. тоже сравнительно немногими. Элитарность распространяется не через зарождение, а через заражение. Элитарность это эпидемия массовки. Элитарные орды обступают настоящие элиты со всех сторон, как варвары некогда обступали Рим. Если элитная культура не выдержит этого натиска, для наступления конца света астероида не понадобится. Тот же авангард – это культура элитная или элитарная? Авангард, если судить по делам его, это не просто элитарная культура. Это апофеоз элитарности, восставшей на элитность. Элитное органично. Элитарное механично. Элитная культура верна законам, элитарная культура потворствует произволу. Элитная культура зиждется на предельно отточенном ремесле, искусности. Искусству принадлежит только то, что искусно. Элитарность плохо владеет ремеслом, а то и вовсе его избегает, поэтому искусство ему недоступно. Элитная культура обретает своих гениев, элитарная их себе назначает. Титаны авангарда? Авангардисты не мастера-подвижники, а дерзкие самопередвижники. Титанов среди нет. Это гигантсткие карлики и карликовые гиганты, восставшие на подлинных великанов. Кредо авангардизма: В чужие монастыри со своим уставом не ходят? Не ходят?! Хорошо, ладно! Тогда извольте принять нашу вихляющую походку в качестве вашего всеобщего внеуставного парадного шага. Авангардисты – прогрессисты. Это их вера. Точнее, они верят в то, что всё шло по восходящей, пока не достигло пика, совершенно полно представленному, если уж говорить совсем начистоту, ими самими. На самом деле, в искусстве-искусности совершенство, как огонь, о котором вещал Гераклит Эфесский, мерами вспыхивает и мерами угасает. Прекрасное не подвластно прогрессу.
Д.М. Йингер в докладе Американской социологической ассоциации указал, что, говоря о нонконформизме, он подразумевает не контр-, а контра-культуру: не противокультурность, не некулътурность, а нечто контрапунктное, дополнительное по отношению к культуре традиционной, столбовой.[24] Такую контракультуру имел в виду и Маклюэн, подбирая цитаты для брошюры под названием «Counterblast». Одно из первых значений слова counterblast – противовспышка, импульс, идущий навстречу исходному всплеску энергии и гасящий его. Но маклюэновский противовсплеск – не гаситель, а дополнитель, входящий в бытиё point contra poin[25] (тут уместно вспомнить «Контрапункт» Олдоса Хасксли).. Авторское заглавие романа Хаксли «Point Contra Point», поверхностно переданное по-русски музыковедческим термином «Контрапункт», потеряло при этом переводе значимый смысловой оттенок, поддразумевающий некое противостояние. Для музыкального контрапункта как такового в английском языке существует выражение counter point. Сопоставим: Маклюэн приписывает открытие counterblast, контрасреды, И.П. Павлову: «Павлов нашел, что натаскивание (conditioning) собак зависело от предварительной их натренированности. Он поместил одну среду внутрь другой. Это и есть counterblast»[26]. Само слово среда в современном английской языке приобрело дополнительные смыслы: «В английской традиции, восходящей к Мэтью Арнольду, понятие о культуре предполагало культивированность, наивысшее развитие, духовные блага, доступные в силу классовой природы общества немногим, лучшим. Более современная концепция, закрепившаяся среди английских культурологов фактически отождествила культуру с социальной средой»[27]. Для самого Маклюэна понятие культивированности не растеряло первоначальных значений, поэтому контрасреда у него одновременно и контракультура (по исходному смыслу слова среда, т.е. массив культуры, где всё дополнено всем), и культура рядовых потребителей, и нечто иное, нежели зауряд-культура, что-то более неширпотребовское. Само слово среда становится заместительным средством[28], благодаря которому можно не поминать культуру всуе, поэтому, когда Маклюэн говорит как бы от лица масс-культуртрегера: культура – моё ремесло, он, возможно, подтрунивает над претенциозностью шоу-дельцов, над их желанием постоять на котурнах. Кстати, правильнее говорить стоять в котурнах а не на котурнах - котурнами назывались сценические сапоги. В названии «Culture is our business», похоже, таится еще один недобродушный намёк. Мы как-то перестали переводить на русский слово business: бизнес он и есть бизнес, т.е дело, ремесло. Памфлет Маклюэна внешне безоценочно указывает на своеобразное понимание своих задач заправилами Медиа и рекламного дела. Но! Когда выбиралось заглавие этой работы, известностью пользовалалась книга французского филолога и беллетриста Роберта Мёрля «Смерть моё ремесло», где ремесло, дело жизни центрального персонажа сводилось к причинению смерти. Дух маклюэнианства проступает в сопоставлении с общим настроем западной гуманитарности. Если понимать под гуманитарностью проблемное поле и развёрнутую на этом поле работу, а под работой понимать деятельность, нацеленную на преумножение, сохранение и осмысление кульуры, на отличение в ней настоящего от завалящего. В каких отношениях находятся гуманитарные проблеьш и гуманитарии - с одной стороны, естественники и их проблематика, с другой? На Западе, да я не только там, это давнишняя и до сих пор не закрытая дискуссионная тема. В конце 50-х - начале 60-х годов остроту обсуждению придала известная лекция английского писателя, политика (и довольно крупного чиновника), ученого-естественника по образованию и первоначальному поприщу, Чарльза Перси Сноу. На Западе и у нас в стране известностно эссе Сноу «Две культуры»[31], одна из основных мыслей которого: «между традиционной гуманитарной культурой европейского Запада и новой так называемой научной культурой, производной от научно-технического прогресса XX века, растёт с каждым годом катастрофический разрыв»[32]. Сноу припоминает, как не смогли поладить между собою филолог и два математика на преподавательском обеде в Комбрижде. Дело вроде бы происходило «в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже»[33]. Уместно отметить: кембриджский колледж Святой Троицы это вторая Alma mater Маклюэна, который первое высшее образование получал на иженерном (sic!) факультете канадского университета. Сэр Чарльз утверждает, что произошла чёткая поляризация, и на одном полюсе оказалась «художественная интеллигенция, на другом учёные, и как наиболее яркие представители этой группы – физики»[34]. Обе группы не могут понять друг друга, не могут найти общего языка даже в плане эмоций[35]
Гуманитариев гнетёт ответственность (это вряд ли – В.Ц.), они склонны драматизировать обстоятельства, в которых им приходится действовать, они ждут от обстоятельств самого худшего, равно как и самых нежелательных последствий для людей, погруженных в эти обстоятельства. У гуманитариев якобы приглушенная манера самовыражения[36], склонность считать себя не реформаторами но, скорое, подготовителями почвы, они не мессии, но предтечи. Другое дело - естественники, народ самоуверенный, оптимистичный, мнящий себя застрельщиком прогресса, и не очень-то замороченный последствиями (социальными и прочими) своих достижений. Естественники считают возможные накладки приемлемой платой, поскольку им кажется, что все в этом мире - к лушему. Они оголтелые оптимисты, с точки зрения гуманитариев. В действительности, энергичная воля к добру, а не поверхностный оптимизм, по мнению Сноу, поднимает лабораторных исследователей над художественной интеллигенцией, позиции которой в некоторых случаях заслуживают прямо-таки презрения[37]. Сноу с сочувствием цитирует одного видного ученого: «Почему большинство писателей прикрываются воззрениями, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов? Разве выдающиеся писатели XX века являются исключениями из этого правила? Ийетс, Паунд, Льюис - девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время, - разве не показали они себя политическими глупцами, и даже больше - политическими предателями?»[38] Сноу претендует на объективизм и стояние над схваткой в позиции, в свете которой достоиства художественной и научной интеллигентности взаимоусиливаются и облагораживаются. Что находит справедливое и полное воплощение, само собой понятно, в личности самого барона Сноу, парохода и человека. Третий путь, по которому шел сэр Чарльз, привёл его к избирательному (рессантиментно-воспитательному[39]) отбору художественного материала. Отбор совершался по морально-политическим основаниям (отбрасывались писатели типа Ийетса и Паунда (коллаборанты, пятая колонна), или по иным значимым для Сноу признакам. При этом в отсев пришлось отправить заумных декадентов Д. Джойса, Р.-М. Рильке, ведь это персонажи «вряд ли заслуживающие настоящего одобрения»[40]. Сноу, видимо, считал свою культурность образцовой культурой. Признаем его правоту: сноубизм это и вправду образцовый снобизм.[41] Хотя Маклюэн не в меньшей степени, нежели Сноу, человек составной культуры, сопрягатель художественности и научности, он при этом, говоря словами всекультурного булгаковского Коровьева, обратите внимание: другой случай. Между Сноу и Маклюэном сходства достаточно, чтобы утверждать: они - противоположности, зеркальные отображения друг друга. Сноу - физик с гуманитарными интересами и возможностями, Маклюэн - филолог с наклонностью к полигисторотву[42], в том числе и с интересом к естественнонаучному материалу. Первый подвёрстывает свои артистические интересы под мерки строгой науки, у него типичная неприязнь естественника ко всему непонятному и избыточно сложному, рыхло выстроенному по формуле вокруг и нечто. Второй не отступает от своих артистически-культурных устремлений и не борется со своей тягой к сложности, выраженной знаменитыми маклюэновскими пробами (тонкими, звонкими и непрозрачными суждениями). Если первый - ригорист, выводящий за рамки своей эрудиции многие имена, причём, по высокопринципиальным соображениям, то у второго как бы и вовсе нет принципов прямого отсеивания: мне, во всяком случае, не удалось их выявить. Лобовые запреты – это не по-маклюэновски. Вкус Сноу не просто избирателен, он ретроориентирован, рессантиментен, нацелен, по выражению Т.Адорно, не на то, чтобы «чтобы адекватно представить и познать смысл произведений, а на то, чтобы ревностно следить за точностью и ни на иоту не отступить от того, что считается исполнительной практикой прошлых эпох...».[43] Помню рассказ о городском сумасшедшем, который на родных бакинских стогнах некогда возглашал: «Я последний классик! И первый романтик! Я покорил Марику Рок!». По отношению к классике Ч.П. Сноу последний романтик. Он романтичный пара-классик Параклассический (околоклассический) ценностный подход вырастает из подмены, когда подлинная историческая традиция неподлинно реконструируется и спрямляется. Например, предается забвению та литературная классика, в которой нелегко найти соответствия классическому идеалу простоты и ясности: эвфуизм, гонгоризм, символистская словесность. Сейчас пара-классичность находит отклик в кругах подстраивающихся под строгую науку социологов и культурологов, филологов-рессантиментниках (тех, кого Ф. Ницше имел в виду в «Несвоевременных размышлениях»). Показательно, что как раз рессантиментные хранители священного огня в своё время не приняли маклюэнианства, порицая его основателя (и единственного представителя) за алогизмы, парадоксы, игрословие, жонглирование цитатами и другие чудовищные прегрешения.[44] Лично меня удивляют не парадоксы МГМ, а парадоксальность раскладов вокруг него: почему-то среда, которая принимала в штыки маклюэновские борзости, со временем стала питательной средой для постмодернистской мерзости. Среди первых гонителей маклюэнианства был Гюнтер Андерс (1902-1992), австрийский писатель, философ немецко-еврейского происхождения (Википедия). Одной из его трёх жён была сильно перехваленная Ханна Аренд. Запечатлелся в истории суровым осуждением телевидения и злобной – по другому не скажешь – непрязнью к Маклюэну. Что ему Маклюэн, чтоб так к нему пылать? Вряд ли причина в зависти. Чтобы завидовать, надо ценить. Вот графоманы, например, отнюдь не завидуют неграфоманам. Их оскорбляет несправедливость: «Буря мглою небо кроет», - ну и что тут такого? За что такая честь?» Андерс писал зло, но тускло, однако как большинство подобных литераторов скорее всего искренне полагал, что лучше не напишешь. Тут не зависть, тут вкус. Многие случаи травли в литераторской среде есть проявления вкусового террора. И есть ещё одна причина. Люди, вошедшие в культуру, истоки и наличное наполнение которой им чужды, либо ополчаются на эту культуру, либо стремятся её завоевать. Довольно часто оба эти побуждения сливаются. Для завоевания подходят боевые приспособления, уже доказавшие свою действенность. Они и осваиваются по силе-возможности. А если вдруг обнаруживаются средства, на освоение которых ни сил, ни возможностей нет, срабатывает синдром перегруженного верблюда с заключённым в нём злым отчаянием. М.Г.М. не злобствовал, но кротким агнцем он тоже не был. Возьмём его склонность к франтовству. Да, Маклюэн был щеголеват. По-мужски: есть разница между франтовством мужским и женским. Женщина одевается, чтобы раздеться. Мужчина наряжается для того, чтобы иные-прочие казались одетыми кое-как. Мужское щегольство – вспомним Красавчика Браммела – это наезд. Щёголь намеренно или нет колет глаза окружающим, словно бы говоря: «А теперь посмотрите на себя!»
Маклюэн искал настоящее в прошлом, устье в истоках. Он пытался показать, что прошлое приобретает очертания лишь в свете современных проблем. Это называлось им эндохтонностью, когда следствия опричинивают причины. В его зеркале заднего обзора современность оказывалась классикой нелинейного прошлого. Примеры эндохтонности он находил в архитектурных изысканияхЗ.Гидиона, в теоретической физике и ином подручном материале. В музыке, например. Маклюэн был знаком с музыкой не по наслышке, одно из его основных образных понятий, звучащая пауза, представляет собой культурологическую метафору, перенос музыковедческого термина, относящегося к шёнберговской додекафонии[45], на культуру в целом. Звучащая пауза, внушал Маклюэн, обнаруживая знакомство и с музыковедческими идеями Г. Гюрджиева, есть зародыш будущей космической гармонии, где во всеобщей космическом бессознательном, распространённом при помощи электроники, будет осуществлена мечта Анри Бергсона о бессловесном и бессознательном коллективизме. «Условиям невесомости, с которыми <некоторые> биологи связывают обещания физического бессмертия, могут быть поставлены в параллель условия безмолвности, могущей даровать вечность коллективной гармонии и миру»[46]. В классическом джазе свинг, волнообразное интонирование, можно при желании истолковать как звуковую пульсацию, т.е. переодическое затухание звучания с приближением к тишине. В джазе выделение безударной доли такта, когда удар или щипок струны заполняет звуком ту часть музыкальной единицы, которая в неджазовой музыке приходится на ритмическую паузу. В этом при желании можно усмотреть отзвук гюрджиевского гармонического безмолвия космоса. Тем более, что - по Маклюэну – синкопируется эта гармония как раз барабаном – волшебным барабаном радио![47].
Сливаются – прежде всего, в современном значении слова сливать – не только джазмены, но и неджазовые звёзды джазовой эпохи: Томас Вулф (который изваял роман «Оглянись на дом свой, ангел»[48]), фицджеральдовский ami constant и ami cochon Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер.[49] Последний - при всём маклюэновском любовании романтичным и рыцарственным Югом США - на доску почёта тоже не помещён. Что лично я - В.Ю.Ц. - считаю неправильным. Впрочем, с некоторыми литераторами Века джаза Маклюэн был кое в чём схож. Сходства этого он сам не отрицал, хотя ему особо и не радовался. Возьмём американского португальца Джона Дос Пассоса. Ему посвящено эссе в подборке «Литературная критика Маршалла Маклюэна».[50] У Дос Пассоса газетная манера вёрстки текста, у Маклюэна иной раз тоже. Однако к маклюэновским литературовеческим и искусствоведческим эссе это не относится. Вот кто действительно повлиял на Маклюэна, так это Джеймс Августин Алоизиус Джойс. Поэтому правильно авангардисткий фильм 2002 года о М.Г.М. называется «McLuhan's wake» - почти так же как эпохальное творение Джойса. М.Г.М. многословен? В «Поминках по Финнегану» одних только единожды употреблённых слов почти 50 тыс. М.Г.М. играет смыслами, безотсылочными отсылками и прочим? А вы попробуйте вникнуть в «Поминки».
Кстати, о великих слепцах. Невзрачный джойсовский Леопольд Блюм не похож на могучего гомеровского Улисса. Но может быть создатель первого ощущал своё сходство с создателем второго? Крив был Гнедич поэт переводчик слепого Гомера. Музыкальные вкусы М.Г.М. созвучны вкусовым установкам Т. Адорно (не забудем, впрочем, что один - дилетант, другой - крупный музыкальный критик своей эпохи). И, случайно или нет, в своих литературных построениях оба со временем сделались, если можноо так выразиться, композиторами одного стиля. Идя от линейно-связного нарративного мелодизма к додекофонии, Адорно не сразу и не до конца, но внедрился в нечто похожее и на литературно-критическом поприще.[51] Маклюэн тоже почти достиг логического (правильнее будет сказать: диалогического) композиционного предела. Шёл ли один по следам другого или оба искали одного и того же?
Особенности позднего паратактического стиля Т.Адорно установлены довольно полно: темнота и, одновременно, понятийно-миметическая сила; афористичность; убежищный (так! – В.Ц.) характер, свойственный идеалу пассивного нонкоформизма; продолжение традиции поэтизирующей философии, идущей от Д. Вико к М.Хайдеггеру; диалектика как софистическое искусство диалога, восстающее против языкового террора позитивистов; метафоризация языка; склонность к языковым мистификациям; нелинейная симультанная логика речения.[52] Всё перечисленное, вплоть до возведённости к стилистике «Оснований новой науки об общей природе вещей» Джамбаттисты Вико, относимо и к маклюэновской манере. С тою разницей, что Адорно видел себя первооткрывателем подобного текстосложения. Маклюэну был скромнее, он не пытался что-то основать, а сознательно включался в традицию, внутри которой новации были приемлемы, но всё же побочны. Ту же верность устоям Т.С. Элиот усмотрел и в Эзре Паунде. [53]. Самоощущение Паунда и Маклюэна справедливо признать менее обманчивым по сравнению с адорновским. Имея в виду, что поток, которому покорились и Адорно, и Элиот, и Паунд, и Маклюэн, набрал силу ещё до их в него.
Итак, «...в 30-х г.г. тема контрапункта (заглавие романа О.Хаксли) или диалога составных частей культур, противопоствляемых друг другу, поднимается одновременно и в гуманитарии науках, и в словесном искусстве, где ею, согласно распространённому воззрению, определяется структура многих произведений»[54]. Вот и Т.С. Элиот положительно настаивает на том, что в любом монологе можно услыхать более одного голоса[55]. Маклюэн развивает тему монологического многоголосья по-своему. Он ищет подтверждений и выдвигает субстанциональные доводы: «Тогда как оптический человек грезил отдалёнными целями и широкой энциклопедической программой знания, электронный человек предпочитает диалог и непосредственную вовлечённость. С тех пор как ничто на земле уже не отдалено для световых скоростей, электронный человек предпочитает внутреннее путешествие внешнему, внутренний пейзаж наружному»[56]. И далее доказательство диалогичности перетекает - совершенно по-маклюэновски - в перверзированную форму, в провозглашение грядущего самоизживания этой данности (диалогичности, многоголосой переклички). Якобы потому, что усиление господства коммуникаций ведёт к снятию диалога, превращению его в полифонический монолог, который окончательно растворит внешнее во внутреннем, слово - в синэстезии чувственного отражения, сознание и внутреннюю речь - в безмолвном всеведении коллективного бессознательного. Многоголосием собственных текстов Маклюэн, сам вписывается в диалогизацию, тем более когда взвихряет её, как бы отдавая дань памяти своему духовному предтече У.П. Льюису. Вортекстизуя повествовательность, меняя местами начала и концы, травестируя и пародируя ссылки[57], переставляя подобным образом другие указатели, Маклюэн как будто борется с привычками обычного перемещения по тексту. На самом деле, кажущийся уход от языкового террора позитивизма, только подтверждает значимость и ценность научной положительности. Словесная игра через остранение не даёт приедаться связному и осмысленному изложению. И вновь перед нами доказательство от противного, согласие смыслов под маскою спора форм. В очередной раз срабатывает приём, который Маклюэн никогда специально не обосновывает, но пользуется которым постоянно. М.М. Бахтин, охотно прибегавший заимствованиями, но неохотно ссылавшийся на их источники, взял у Г. Вёльфлина противопоставление линейного и живописного стиля в живописи и при этом отметил отход европейской литературы от линейной повествовательности ХVII-ХVIII веков, когда чужая письменная речь последовательно включалась в речь собственную, передавая живописной развёрткой текста непосредственное развитие устной речи и заключённой в ней мысли, текущей поверх плотин между чужим и своим.[58] Маклюэн на Генриха Вёльфлина ссылался вполне охотно. Идеями могучего швейцарца он пользовался не обинуясь. В том числе и опосредованно. Когда, например, цитировал историка и теоретика архитектуры Зигфрида Гидеона, считавшегося вёльфлиновским учеником[59]. Однако говоря о линейности и нелинейности, МГМ ссылается в первую очередь не на авторитет Вёльфлина или Гидеона, а на непобедимую и всепоглощающую стихию газетных текстов: «Заслуживает внимания то, что популярная пресса, как некая форма искусства, часто привлекала внимание художников н эстетов, одновременно порождая тревожные предчувствия в академических умах (характерный маклюэновский намёк на королевский разыв между чувством и мыслью, на противопоставленнось поэтического и академического - В.Ц.). Обратимся к облику газеты, каким он стал сейчас, спустя сто лет после распространения телеграфа. Облик этот организован не по линии повествования, но по линии события. Как символичеокая поэма, обычная газетная страница представляет собою собрание бессвязных сообщений в абстрактном мозаичном сочетании. С этой точки зрения, совершенно ясно, что газета в течение многих лет была корпоративной поэмой. Она представляла из себя cобирательный образ сообщества, открывала разнообразные человеческие интересы. Лишённая линейности, связной наррации, газета долго была в силу своих оральных и корпоративных качеств близка ко многим традиционным формам искусства»[60]. Свой отход от повествоватальности Маклюэн объясняет не изобретательностью, но доверием (лояльностью) к логике самих событий. Данности, на которые он указывает (телеграфный стиль журналистики, символическая поэзия), действительно подтверждают, что маклюэновская стилистика не его прихоть и не принадлежит только ему, но вписывается в некоторое общее направление, доступно представленное газетно-журнальной продукцией. Вот и Бахтин находит у Достоевского особенную любовь к газете и интерес к ней как к образу общества в разрезе дня или одного момента[61]. По Бахтину, не кто иной как Достоевский утвердил в литературе нелинейную форму письма (полифонию), когда текст «фатально распадается на свои составные, несхожие, взаимно чуждые части, и перед нами раскинутся неподвижно, нелепо и беспомощно страница из Библии рядом с заметкой из дневника происшествий или лакейская частушка рядом с шиллеровским дифирамбом радости»[62]. Достоевский это, конечно, голова. Но бахтинское наблюдение относимо и к Маклюэну. Берём типическую страницу его текста: она начинается с упоминания «Книги перемен», затем следует указние на хиазмические обороты в Библии (хиазм – излюбленный приём и самого МГМ), тут же упоминаются более-менее всуе компьютеры и биты (а можно было бы и байты), далее фрагмент о мифах с переходом к А. Тойнби, от него - к клише и архетипам, к автомобилям и античности и увенчивается всё не раз повторяемой поэтической цитатой: «Королевский разрыв между мыслью и чувством»[63] . И таких страниц множество. Нельзя, конечно, сравнивать изобразительную силу Достоевского и Маклюзна. Маклюэнизм - это перенесение полифонии в стихию обеднённой философско-культуро-социологической прозы. Такое перенесение способно несколько сгладить эстетическую ослабленность[64]. Благодаря полифонизации, остранённый за счёт неё текст на фоне общего академического узуса, воспринимается более-менее свежо. Что, как говорится, и требовалось доказать. Что до мастерства, то речи нет об одноуровневости мастера Достоевского и подмастерья Маклюэна. Здесь типологическое родство, способное к расширению за пределы ограниченного круга имён. «Достоевский старался воссоздать события в их одновременности, - говорит М.М. Бахтин, - стремясь их сопоставить и противопоставить, однако не вытягивая <воссозданное> в в становящийся ряд, мысля их содержания как одновременные, взаимоотносящиеся в разрезе одного момента, отсюда вихревое движение, отсюда отказ от причинности, отсюда и неэвклидово, по собственному выражению Достоевского понимание пространства и тенденция приближать конец, эсхатологизм».[65] Содержание этой цитаты вполне относимо к маклюэнизму и не только к нему[66]. При том, что нет достаточных оснований предполагать прямую родственную связь между, не в обиду сказать, достоевщиной и маклюэнщиной. Нет свидетельств, что Маклюэн учился писать у Достоевского. Вряд ли М.Х.М глубоко погружался в русское достоевсковедение. Едва ли штудировал работы М.М. Бахтина, хотя мог знать, чем занимался в Кембридже филолог Николай Бахтин (старший брат Михаила Михайловича). Более вероятно, что здесь действовали общие обстоятельства, натолкнувшия независимых друг от друга людей на сходное идеетворчеотво. Сходное с оговоркой. Если Достоевский стоял у истоков литературного течения, начиная и направляя его, то Маклюэн влился в него как в сложившуюся данность. Справедливость требует отметить, что истолкование Маклюэном нелинейной повествовательности не нуждалось в авторитете исключительно Достоевского. Были для и другие авторитеты: «История становится мифичной из-за уплотнения времени, переплетения событий, когда прошлое, настоящее и будущее пересекаются в электронной теперешности (newness). Пока правоверные ученые продолжали объяснять природу через причинность, Доплер изгнал её из науки в метафизику, действуя в духе Венского кружка»[67].
Постимпрессионизм и Поль Сезанн неотделимы. Поэтому и Сикерт с Льюисом, и другие английские постимпрессионисты были сезаннистами, воспринявшими у великого упрямца из Прованса неэвклидовское видение пространства. То, что называют сейчас криволинейной перцептивной перспективой[69]. Из этого вдохновляющего источника проистекает и маклюэновский сезаннизм. Недаром большая (и интересная) работа М.Х.М. «Сквозь исчезающую точку. Пространство в живописи и поэзии» (1968 г.) проникнута уважением Сезанну настолько, что многие склонны видеть именно в Сезанне любимого художника Маклюзна. По некоторым сведениям, работы Сезанна присутствовали в личной коллекции Маклюэна. Если так, то можно позавидовать благосостоянию канадских профессоров. Однако не правильнее ли предположить, что маклюэновская пространственная концепция внушена все-таки не напрямую Сезанном, а Льюисом, который был художником-медиумом, идеетворцем, влиявшем на мнения и вкусы ценителей живописи. Льюис-художник меняясь с годами, в какой-то момент перешёл к опытам с т.н. абстракционизмом. И, хотя есть возражения против зачисления Сезанна в провозвестники абстракционизма[70], нельзя отмахнуться от мнения уважаемого Б.В. Раушенбаха[71]. Трудно отрицать и тот факт что пост- и неоимпресионизм (в частности, Ж. Сёра, П.Синьяк, художники группы Наби (набиды (пророки) - П. Серюзье, М. Дени, П.Воннар) не только влили в живопись свежую струю, но и подтолкнули её к роковой границе die entartete kunst (выражение Макса Нордау): к кубизму, абстракционизму, прочим практикам сокрушения формы, именуемым своими ревнителями прогрессивным искусством, авангардом[72]. Льюис, идя от Сезанна, с оглядкой и не во всём, но следовал девизу «Transcedere!», известному публике по «Игре в бисер». Если пространство полотен Сезанна называют «сфероидным» («<…> – это сфероидное подвижное поле. Кажется, что пространство вращается; такое впечатление возникает от изгибов линий, составляющих основу композиций (Лилиан Герри)»[73], то у Льюиса в вортексовских работах вращение становится вихревым (vortex, вихрь - напомню, таково самоназвание основанного и продвигаемого Льюисом направления в абстрационизме).
Но будем справедливы к Уиндему Перси, пространствоборство было у него лишь увлечением, о котором можно и забыть, зная, видя другие картины этого мастера. Впечатлившись вортексом, Маклюэн подкрепляет эту культур-метафору образом водоворота, заимствованным у Э.А. По (новелла «Низвержение в Мальстрем»), придавая льюисовскому вихрю связанное с Декартом значение космически-бытийной аллегории.
Это заглавие напоминает об одной из памятных элиотовских лекций «Критикуя критику». Меж тем, Элиот был близко знаком с Льюисом. У них были общие интересы и сходные пристрастия. Как литературные критики они оставили друг о друге благоприятные отзывы.[74] Надо заметить, что Льюису-критику благодушие свойственно не было. Те, кого он критиковал (в нашем русском смысле слова критиковал, т.е. полоскал), платили ему тою же монетой. Только грубее чеканенной.
Известная личность, чей образ, наполняясь отчасти исторически подтверждаемым, отчасти мифологизированным содержанием, начинает людей сплачивать и разделять, становится критериальной фигурой, ферментизирующей культуру. Именно такова личность У.П. Льюиса. Если литературным изводом импрессионизма был символизм[76], то постимпрессиониста Льюиса, можно без особой натяжки назвать позднесимволистским писателем. Его запоздалость выражалась не только в ностальгической симпатии к С. Малларме, Ш.Бодлеру, Э.По (симпатии, с меньшей глубиной и накалом передавшейся и Маклюэну), но и в вовлечённостии в современную ему символистскую стихию (как истинный англичанин Льюис предпринял Гранд Тур, повторив легендарный маршрут Эдгара По и побывал - на самом деле[77] - в Петербурге, поучаствовал в жизни тамошней общины символистов, посетив Башню Вяч. Иванова и познакомившись там с «Миром искусства» (когда это объединение возглавил Н.К. Рёрих). И визитёра, и гостеприимных хозяев сблизил интерес к художественной практике прерафаэлитов второго призыва (особенно Э. Бёрн-Джонса и его последователей). Близость была и в том, что как Льюис, так и русские символисты видели в символизме не только художественный метод, но и пронизывающую мировоззрение философию. Если под философией понимать объяснительную практику, сближающую отдельные виды гуманитаристики, то философией Маршала Маклюэна в его литературоведческих, социологических и иных работах следует признать именно символизм. Сближения на основе неочевидных сходств, стирание границ между обозначающим и обозначаемым, инверсия причин и следствий (та самая эндохтонная причинность), интерес к амбивалентностям (средство сообщения не только переносит сообщение, но и сообщает нечто от себя) – всё это появилось до Маклюэна, будучи введено в арсенал изобразительной культуры именно символистами и став основой их мировидения. Символисткое мировидение устремлено к сложности как к основе и гаранту бытия. Оно проникнуто пафосом сложности[78]. Оно погружено в стихию чужого слова, когда магические эффекты возникают из обращения пусть не к тайным, но, тем не менее, не всем понятным смыслам. Такие смыслы проходят сквозь сознание непосвящённых как сквозь светило дня прозрачное стекло[79]. Это относится не только к оригинальным построениям, но и к заимствованиям, которые утаены в авторских тексах и отмечены замаскированными отсылочными метками[80]. Вот и Маклюэн прячет опорные источники своих построений, облекая опосредованный подтекст в маску непосредственно воспринимаемого текста. Игра с читательской неосведомлённостью (отчасти игра в бисер, отчасти озорство в духе Джойса) создаёт иллюзию мыслевыражения упрощённого, сведённого к простым формам (афоризмы, мантры или – как сейчас говорят - мемы). Наукообразию также отведено должное место: цитатам придаются должные ссылки, комментарии подкреплены источниками и т.д. и т.п. Всё это обезоруживает перед гипокритичностью (лукавостью, двуличностью) цитат и других паранаучных средств, прикровенный смысл которых может менять и даже поворачивать на 1800 то, что выставлено для витринного восприятия. Нормальный потребитель научности следит в меру своих возможностей за соблюдением формы и проформы, однако гипокритика способна усыпить его бдительность. Средство сообщения в состоянии сообщить то, чего вроде бы и не сообщает, одновременно не сообщая того, что вроде бы должно сообщить. Влияние на Маклюэна теории лингвистической относительности давно отмечено в отечественной литературе[83]. Но омечено не вполне точно, потому что правильнее вести речь не о гипотизе Сепира-Уорфа, а об идеях именно Уорфа, поскольку Эдвард Сэпир, университетский наставник Уорфа, был не соавтором гипотезы, но благодаря своему научному авторитету, её промоутером.
Уорф писал: «Если мы сделаем попытку проанализировать сознание, мы не найдём <в нём> настоящего, прошедшего и будущего»[84] Уорфу принадлежит мысль о линейности европейской модели времени и о видоизменении этого времени от линии к спиралевидности (точнее, винтообразию – В.Ц.) Время становится воронкообразным по мере того, как прежний физический мир - мир скорости, ускорения, темпа – превращается в Универсум «интенсивности и вариантов»[85], где механическая логика замещается химической4), вследствие чего начинается синтез более глубокой и эстетичной коллективности, внутри которой индивидуальная кинэстезическая чувственность переродится в глубокую синэстезию5). Прозрения Б.Л. Уорфа – реперные точки маклюэноской космогонии. Маклюэн тоже раз за разом повторял, что в электронном мире, где скорости – световые, которые поэтому уже нельзя нарастить (при которых ускорение невозможно), воцаряется коллективная синэстезическая вовлечённость всех во всё и всего во всех[86]. Другой способ закамуфлировать заимствования – не переодевать, а раздевать их – освободив от кавычек, прямых указаний на источники. Словом, лишить цитаты признаков цитатности. Маклюэн оголяет цитаты, не добавляя им соблазнительности, зато оберегая от опознания.Так он поступает с заимствованиями из «Заката Европы», «Мыслей» Паскаля[87]. Он писал, обращая внимание на круговую обусловленность нынешней культуры: «Курица есть средство, с помощью которого яйцо выводит другое яйцо», а это прямой перепев Анри Бергсона («жизнь движется от зародыша к зародышу при посредстве взрослых организмов»[88]) . С А. Бергсоном связана ешё одна особенность маклюэновского текстосложения - пентименто. В живописи пентименто называется проступание нижних красочных слоёв сквозь постепенно светлеющую покрывную краску. Точно так в маклюэнизме проступают идеи, созданные или пересказанные его предшественниками. Гегелевские триады, например, пришли к Маклюэну со стороны лессировщиков Гегеля О. Шпенглера, Р.Дж. Колингвуда и Б. Кроче. Отметим потребность в гегелевском инструментарии у немалого числа паратактических текстослагателей. Помимо прямых неогегельянцев, гегелевское пентименто присутствует у Адорно с его негативной диалектикой, у Льюиса, Паунда, Иейтса. Т.С. Элиот называл свой основной мыслительный приём метафорическим фантазированием подразумевая под этим импровизацию вокруг и по поводу уже готовых суждений, не обязательно его собственных. Т.С. Элиот не был философом, однако мировоззренчески он тяготел к неогегельянству. Куда же Маклюэну, идущему вслед за Элиотом, было деваться от Гегеля? Если гегельянство проступало сквозь Элиота, то пентименто Бергсона обеспечивалось Льюисом (который был сознательным бергсонианцем). То же и по линии Джойса, связь которого с Бергсоном установлена довольно удовлетворительно[89]. Возможно и Б.Л. Уорф, чьи онтологические представления не чужды взглядам автора «Творческой эволюции» в свою очередь мог повлиять на связь маклюэнизма с бергсонианством. Некоторые работы Маклюэна это словно свободные сочинения на бергсоновские темы.
Маклюэн писал о прошлобудущем. По Бергсону, прошлое накатывается на настоящее и выдавливает из него новые нераспознаваемые на основе наличного опыта формы. Таким образом, будущее обезличивается, расформировывается ещё до своего осуществления. Поэтому в состав наличного времени входит только содержание настоящего и прошлого. Мгновение - это затвердевание временного в пространственное – в движущуюся в настоящем точку, в линию[90] (совершенно по Уорфу или Маклюэну). На нехватку будущего в картине мира Бергсона дано некоторое подобие ответа в космогонии Маклюэна. Он рассуждает примерно так: раньше, в линейную эпоху, настоящее было на самом доле прошлым (зеркало заднего обзора), поэтому сегодня наступало лишь завтра, над миром ограниченных скоростей царила инерция, мир хронически отставал от самого себя. Теперь всё инаяе: настоящее со скоростью света врывается в будущее, в вихрь сиюминутности втягивая и прошлое. Сегодня прошлое - продолжается, а будущее длится уже в настоящем. Все виды времени - в синхронном наличии. Ничто не выведено за скобки, всё оказывается возможным, кроме гуссерлевского эпохэ. Теперь не вымученный протокольный жаргон, а живой раскованный язык, который называет всё, что показывается, помнится и мнится, обеспечивает гносеологическую или онтологическую точность. По Бергсону язык служит разворачиванию времени в пространственные формы (в мгновения). Вместилище этого разворачивания, горизонт, в пределах которого происхожит опредмечивание времени, - сознание. Такое сознание не изолировано, а индивидуализировано в том смысле, что оно, во-первых, ин-дивидуально, т.е. внутренне нерасчленимо, а во-вторых неотделимо от внешних связей. Собственно временной характер обретается осознаваемым временем только в потенции, в возможностях, возникающих под воздействием коллективного бессознательного в водовороте языка и в направлении, задаваемом жизненным порывом. Время уже не деньги, хотя бы потому ,что его нельзя израсходовать или растратить. Неденежное время нельзя пересчитать, зато на него можно уверенно расчитывать. Это не просто уверенность в сегодняшнем дне или дне завтрашнем. Это выросшая из жизненного порыва уверенность, что предчувствие и предчувствуемое нельзя изъять из переживаемых мгновений ни вместе, ни по отдельности, поскольку они сросшиеся близнецы, которые друг без друга не могут существовать. Нерасчленённое и нерасчленяемое время превращается в неделимое и всеохватывающее Сегодня, избавляя человека от извечного страха перед грядущим. Вот и Маклюэн советует держаться сегодняшности (to take to-day) и не только в ограниченном сознании, но и в безгранично наэлектризованном и проэлектроненном Универсуме. Оптимизм Бергсона по отношению ко времени кажется показным[91]. Что ж, может быть и так. Бергсон слишком глубок и тонок, чтобы безоглядно полагаться на его безоглядность. Бергсоновские выводы, даже если они не сопровождаются оговорками, только кажутся категоричными. А раз кажутся, то они в каком-то смысле действительно показные. Маклюэновские советы оглядчивости не требуют: прислонитесь к теперешности как тёплой печке, и всё получится. «Канатоходцы, канатоходчицы/Ужасно страшно страшно, но страшно хочется/ Шагнуть, не удержаться, свиснуть/И падая, в два пальца свистнуть». Человек по натуре как минимум двойственнен, он может одновременно и страшиться чего-то и желать шагнуть навстречу страшному. Венец страшного – конец существования, смерть. Будущее, в каком бы радужном ореоле оно ни обрисовывалось, в спектре этого ореола содержит чёрную линию - неизбежность ухода. Озабоченность будущим, эсхатизм[92], проявляется в настоятельной потребности упредить недобровольный конец его самовольным приближением. Тон настоятельности вполне может восприниматься как приказной. Но вот оптимизм ли это? Тут бабушка, как говорится, надвое сказала. Тем более, бабушка с острою косою. Не в том ли подоплёка т.н. утопизма, его перверзированности (превратности), когда время предстаёт и препятствием при достижении цели (будущего), и одновременно защитой от этой цели? Конечно, будущее, роскошное в возможностях, но опасное в его непредсказуемостях, – на все ли сто процентов оно лучше скромного, но зато обжитого малосюрпризного настоящего? Не приемлемее ли синица в руках, а то и жареный петух за спиной, нежели журавль высоко в небе? Ведь добра не ищут не только от добра. Описание будущего у Маклюэна – это неадресованный явно, но попунктный ответ на стращания-обещания утопии (и одновременно антиутопии) Олдоса Хаксли. Кто только не оттаптывался из советских идеологов на такой буржуазной диверсии против светлой социалистической идеи как антиутопия «Смелый новый мир».[93]
На самом деле, Хаксли выступал не против социалистических фантазий, а против печальной реальности человеческой природы. «Смелый новый мир» это грустный и иронический отклик на вольтеровского «Простодушного» который был, в свою очередь, насмешливым ответом на утопию естественного человека Руссо. Вольтер vs. Руссо. В чём спор одного великана позднего Просвещения с другим? Кстати, и Вольтер, и Руссо для своего времени были воистину великанами: рост обоих 180 см с лишком.
Фернейский скептик усомнился, что человека, подобного светлоликому Гурону (чья голова, не сохраняла следы ударов по ней, зато прочее запечатлевала навсегда), можно приспособить к цивилизации. Отсюда и сомнение, что европеец по происхождению, но индеец по воспитанию Геркулес де Керкабон может соединить в себе достоинства историчности и доисторичности. Другими словами, соединить благодетельную простоту прошлого с цветущим разнообразием настоящего. Вообще-то Франсуа-Мари был не против простецов, в его пьесах есть с теплотою представленные: честный садовник, простой солдат, добрая девушка, помогающая отцу-селянину. Откуда тогда полемический настрой «Простодушного»? Нельзя исключить, что дело не столько в увлечении Руссо натуральностью, сколько в натуре Руссо, вызывавшей у Вольтера раздражение. Было время, Руссо называл Вольтера трогательным[94]. Разлад между ними обозначился около 1755 г. Тогда Вольтера, от более-менее искреннего исторического оптимизма отвратило лиссабонское землетрясение, меж тем как Руссо по этому случаю ещё раз вступился за Провидение. При этом была пущена отравленная стрела: роскошествующий Вольтер, по словам Руссо, не видит на земле ничего, кроме невзгод и страданий; он же, бедный Жан-Жак, находит в себе силы не упускать из виду хорошее и в нехорошем. Масла в огонь подлило «Письмо о зрелищах», где Руссо выступил против устройства в Женеве театра. Вольтер, прививавший посредством своего домашнего театра в Фернее вкус женевцам к драматическим представлениям, решил, что письмо это есть памфлет против него лично. Жизнь есть жизнь, и она всегда такова, что времена не могут обуздать нравы людей, а людям не по нраву их необузданные времена. После некоролевского разрыва Вольтер не упускал случая посмеяться над Руссо. Дело дошло до объявления, что Жан-Жак никакой не властитель столичых салонных дум, а обыкновенный деревенский сумасшедший. Перегретости неприязни способствовал и запрет для Руссо посещать Женеву. Этот запрет Жан-Жак – справедливо или нет - поставил в счёт Вольтеру. А вот что действительно имело место, так это вольтеровское обвинение Руссо в намерении ниспровергнуть женевскую конституцию и упразднить христианство, высказанное в анонимном памфлете (авторство Вольтера установлено). Противопоставленность Франсуа-Мари и Жан-Жака пронизало века и границы. Совсем недавно мой знакомый, известный человек, крупный писатель небольшого роста, сельский уроженец и столичный житель поведал мне, что Вольтер его раздражает, а вот Руссо как раз наслаждает. Без избирательного сродства (Гёте) тут, на мой взгляд, не обошлось. В общем, Вольтер и Руссо друг друга стоили, один вредничал и другой платил ему тою же монетою, причём не хуже чеканенной. К слову сказать, готовность Франсуа-Мари положить голову за чьи-то убеждения – миф, выдуманный поклонницей.[95] Не такой был Вольтер человек, чтобы пожертвовать ради кого-то не то чтобы головой или париком (см. картинку), но даже одним своим волоском. Олдос Хаксли не Руссо и не Вольтер, он не сводил ни с кем и ни с чем личных счетов. Этот стрелок осторожно обращался с оружием. Его позиция была по-джентльменски уравновешенной. Он изображал в тёмных красках безрадостный новый мир и одновременно без особой любви обрисовывал простодушный – слишком простодушный - мир старый. По прошествии времени художнику Хаксли использованная им палитра показалаль недостато тёмной, и он ещё больше сгустил краски в пространном эссе «Возвращение в смелый новый мир» (1958 г.)[96] В романе Хаксли воспроизводится фабула «Простодушного»: человек, рожденный в смелом (цивилизованном) новом мире, проводит детство и юность в мире старом (в специально сохраненной из научно-репрессивных соображений резервации), а потом выбрасывается назад в цивилизацию. Жизнь в резервации – не сахар, она духовно убивает попавшую туда цивилизованную женщину, уродует ее сына, который потом гибнет, и в смелом новом мире не найдя себе места.[97] Прогнозы М.Г.М. касательно грядущего – это и впрямь воспоминания о будущем, о будущем, каким оно запомнилось ему как читателю по фантасмагории Хаксли: будущее – мир, устроенный в виде большой деревни, все обитатели которой вовлечены в совместную жизнь. Житейские обстоятельства каждого – перед глазами и под ногами у всех, любое возвышенное или низменное проявление человеческой натуры – на виду, поэтому всё человеческое не чуждо всем без исключений и всеми обобществляется. Эта прелесть распространяется на всю планету, спасённую от безобразий разнообразия. Свойственные механизированному обществу особенности и отличия растворяются в электонном трибаличтическом единстве. Хорошая новость от Маршалла Маклюэна: цена за такое усовершенствованное общежитие будет ниже, чем у Олдоса Хаксли. В частности, не будет станочно-позвоночного хребта хакслиевского смелого нового мира – сборочного конвейера. Уйдёт в небытие трудовая специализация. Как следствие, людей не станут метить неприятными буквенно-цифровыми индексами. Администрация изыдет как известная сила, вплоть до её высшей иерархической формы – правительств. Правительства, по студенческому выражению, окажутся в осадке (in drope-out)[98]. С отказом от карьерных крысиных бегов устранится опасность появления князей из грязей - узурпаторов, самоназначившихся в сверхчеловеки[99]. В одной отечественной кинокомедии землетрясения не было, а пострадавшие от землетрясения были. Человек переворачивает мир в поисках точки опоры. Мы видим: в жизни не на что опереться, а мир всё равно перевёрнут с ног на голову. По Маклюэну, никаких специальных опор искать не надо, всё само найдёт всё. Самообслуживающаяся опора - средства сообщения. Точки их приложения везде, а предел распространения - нигде. Такая опора мир, якобы, не переворачивает, а разворачивает (развёртывает). Средства сообщения есть, а пострадавших от них нет. Эти умиротворяющие пророчества на фоне прошлых антиутопий
утопичны в квадрате: классический утопизм всё-таки не отрывался от здравого смысла. Утрируя будущее, он его пытался этим как бы усовестить, отвратить от худшего. Это своеобразная расчётливость. А расчётливость не что иное как виртуальнаяя форма действенности. Присмотримся к центральному уподоблению маклюзнизма: Медиа = Мальстрем. В новелле По «Низвержение в Мальстрем» рыбак спасается в морском водовороте, потому что находит в себе силы отказаться от борьбы с чудовищной воронкой. На вопрос, смог бы он повторить этот опыт, рыбак с чувством отвечает: «Нет!». Чему нас учит данный случай? Стихии оставляют шанс, если погружаться в их завихрения, не пытаясь бороться, но и не теряя надежды выплыть. Это я и называю мальстремизмом. Журналист из «Плейбоя" спросил Маклюэна, вернется ли тот к теме масс-медиа и получил ответ в духе новеллы Э.-А. По: «Любой Геракл сможет вычистить авгиевы конюшни, но только один раз »[101]. Авгиевы конюшни. В том-то и дело: маклюэновские антиутопии, подпитываются не страхом, а скорее брезгливостью. Брезгливостью к тому, может плавать в будущем как в известной проруби. Брезгливый утопизм входит в соприкосновение с утопизмом простодушным в качестве контрастного фона. Утопическая привередливость… Из того, что осуществимо, далеко не всё желательно. А если будущее сулит неприятности, то зачем ждать таких сюрпризов? В нетерпении по отношению к будущему - потребность покончить с тягостным гаданием. Будь что будет, только бы скорее. Apocalypse Now. Светопредставление – немедленно! На том и сердце успокоится. Тут и гносеологическое нетерпение. Сознание, потерявшее в многослойной самоиронии ясное направление, ждёт, несмотря на уверенный тон пророчеств, подсказки со стороны событий, чтобы сначала подраться, а потом разобраться. Собственно, не разбираться и раскладывать всё по полочкам, а вникать без расчленёнки, получая серийное удоовольствиее от самого процесса. Без конфликта с законом и без чрезмерного внимания к со стороны невовлечённых. Отсюда особый строй суждений, характерное плетение текстов - с зашифрованными, скрытыми перекличками смыслов, безотсылочными заимствованиями. Цитаты, то чётко атрибутированные, то, наоборот, вставленные без указания источников, кружат голову читателю. А кое-кого побуждают к настороженному (пристальному) чтению. Именно кое-кого. По мнению О. Шпенглера в Германии вдумываться в прочитанное разучились уже во времена Гёте.[102] Так откуда взяться пристальному чтению в иных странах, где никогда не было особой тяги к задумчивости и не сложились условия ни для пристальности чтения, ни для тщательности письма? Может, кое-где увлечение думаньем редкость, но в Великобритании первой половины ХХ века оно ещё наблюдалось.
Вот каким изобразил Форда добрый человек из Оук-Парка, штат Иллинойс: «Я пытался вспомнить, что говорил мне о Форде Эзра Паунд: что ни в коем случае я не должен быть с ним груб и должен помнить, что он лжет, только когда очень устал, что он на самом деле хороший писатель и пережил тяжелые семейные неприятности. Я очень старался держать это в уме, но реальность грузной пыхтящей неприятной персоны на расстоянии вытянутой руки препятствовала этому.»[103]
Маклюэну не очень нравилось, когда его объявляли адептом новокритического подхода. Тем не менее, он, как говорится, укреплял свои кости именно в Кембридже и именно тогда, когда там царил Ричардс. Можно даже согласиться с утверждением, что в маклюэнизме филологическим наработкам новой критики придан масштаб социологического и философского подхода[104]. Ричардс и Маклюэн пришли в литературоведение извне: первый из экпериментальной психологии, второй - опираясь на историю техники. Обоих могло привлечь свойственное Кембриджу сближение естественнонаучности и гуманитаристики. Ричардс тоже присуждал поэзии председательское место в культуре.[105] Для обоих особую значимость имели имена Д. Донна, С.Т. Кольриджа, Т.С. Элиота. И Маклюэн мог бы подписаться под максимой Ричардса: «Мои идеи, в широком смысле, заложены в моём языке»[106]. Оба литературоведа с равным вниманием относились к средствам, которыми тексты «защищают себя»[107] И всё-таки Маршалл Херберт не был адептом Айвора Армстронга. В годы возможного соприкосновения с Маклюэном Ричардса отличало рассмотрение текстов, не очень почтительно отнесённое Т.С. Элиотом к lemon squeeser school of criticism (выжато-лимонной школе критики).К классике выжато-лимонности справедливо отнести известный труд У. Эмпсона «Семь типов многозначности» (1930 г.) и ричардсоновскую работу «Практическая критика» (1928 г.). Обе эти разработки имели манифестный характер. В них предлагалось отказаться от использования любых фоновых сведений, названных подспудным знанием (underground knowledge). Для Маклюэна, наоборот, и фон и подспудность были важны изначально. В конце концов эта установка была увенчана в маклюэнианстве настоящей метафизикой текста, подтекста (underground), контекста (aboveground), распространённой на всю культуру целиком.[108] Надо заметить, что Ричардсу исследовательский опыт со временем привил большую внимательность к текстовому фону, и он признал, что подоплёка литературного текста – это тот сложный вопрос со сложностями которого стоит разобраться.[109] Теперь исследователи живого разговорного общения с точки зрения сопутствующих этому общению обстоятельств ссылаются на пионерские работу Огдена и Ричардса (Ogden C.K., Richards J.A. The mtaning of Meaning. – Kogan, others & Co.- 1923)[110] Отличие, таким образом, между ричардсоновским и маклюэновским подходами в том что для первого характерно более-менее отчётливое очерчивание границ изучаемых объектов, а второй изначально опирался на «фоновость» для преодоления таксономических и иных границ в поисках неявных или скрытых смыслов Табличное или таксономическое (М. Фуко[111]) сопоставление упрощает свойства. Отношения представленных таблицей объектов кажутся определённее, чем на самом деле. И хотя достигаемая таким путём простота не обязательно уязвимая смертью болезнь (О. Мандельштам), она всё-таки остраняет табличное содержание по сравнению с его внетабличным коннотатом, т.е., как говорится, с самою жизнью. Не отказываясь от таблиц начисто, Маклюэн, чаще прибегает к излюбенным взвихрениям, маскировкам. При этом он отдаёт предпочтение маскам усложнения перед масками упрощения, чего не скрывает. В открытом предпочтении всегда присутствует некая патетика. В данном случае пафос предпочитаемой сложности – это противокартезианский пафос. Incognito ergo sum. Но такая установка вовлекает в круг, в котором уход от картезианства оказывается возвращением к Декарту.
Картезий - еще одно пентименто в маклюэнизме. Почему так – помогает понять другой профессор-филолог, Луиджи Пиранделло. В пьесе Пиранделло «Наслаждение в добродетели» есть такой пассаж: «Декарт пришел к самой страшной мысли, какая когда-либо зарождалась в человеческой голове; а именно, он пришёл к выводу, что если бы наши сновидения отличались упорядоченностью, мы никогда не смогли бы узнать, когда мы спим и когда мы бодрствуем. <…> Люди подчинённые такой упорядоченности, просто не в состоянии себе предствавить, что может быть реальным и правдоподобным для тех, кто <…> ведёт абсолютно беспорядочную жизнь»[112] По Пиранделло житейской упорядоченности явь – сон в театральном действе соответствует оппозиция лицезренье – лицедейство. Коллизия пьесы «Шестеро персонажей в поисках автора» построена на снятии оппозиций и разрушении упорядоченностей, вследствие чего и зрители, и актёры, оказываются равно вовлечёнными в опасное надтеатральное действо. Вовлечённость в действо лишает защиты его участников от любых поворотов этого действа. Отстранённость наблюдателя становится невозможной. На месте драматической иронии по Аристотелю воцаряется ирония, которую Пиранделло назвал иронической. Такая ирония именно воцаряется, поскольку от неё не спастись и коронованным особам. Заглавный персонаж пиранделловской драмы «Генрих IV», под маской безумия превращает свою жизнь в гротеск и вовлекает в гротесковые эскапады действующих лиц и исполнителей на сцене и в зрительном зале. В результате последний номер фарса оборачивается настоящим преступлением[113]. Судьба в конце концов сыграет с вами, коль вы играете с судьбой. Итак, с вовлечённостью шутки плохи. Вот и судите сами о благодушии маклюэновского пророчества насчёт всеобщей вовлечённости. Это при том, что вовлечённость (global involvement) и есть та причина, по которой «мир превращается во всемирную деревню, где нет зрителей, есть только актёры»[114]. Нет, не случайно Макдюэн, в очередной раз возвращаясь к теме глобальности, заканчивает рассуждения разбором пьесы Пиранделло «Одеть раздетых». «Сыграйте и со мной в такую колоду, -- весело попросил какой-то толстяк в середине партера. Авек плезир! -- отозвался Фагот, -- но почему же с вами одним? Все примут горячее участие!»[115]. М.А. Булгаков понимал публику и знал, что ей может понравится. А нравится публике - и в булгаковские времена и в нынешние - участвовать в разного рода представлениях и не нравится, когда ей в этом препятствуют. М.Г. Маклюэн тоже публику понимал и видел, как увлекают её развлечения, которые он называл «холодными». Вообще-то для англоязычного человека cool – хорошо, забойно, клёво. Для М.Г.М. cool это средство связи и сама связь, которые не только несут в себе какое-то сообщение, но и делают адресата сообщения деятельной составной частью сообщаемого. Хеппенинги, перформенсы и т.п. – все подобные действа требуют, прямо-таки вымогают, от тех, кто с ними соприкасается, быть не отстранёнными наблюдателями, зрителями, spectator(ами)[116], но деятельными участниками, держателями совершающихся в их присутствии акций. Так сказать, beholder(ами)[117] в исконном смысле этого слова. Парадокс: чтобы холодные заварушки были холоднее (клёвее), участие в них должно быть горячее. Если пыла не хватает, его надо изобразить. Кто сталкивался с хеппенинговатым перформенсованным народом, наверное, обратил внимание, что этот люд не просто творит глупости, но глупит с энтузиазмом. Те, кто поглупее, глупят от души. Остальные притворяются. Притворство, двуличие это оборотная сторона энтузиазма понарошку. За двуличие справедливо и правильно платить тою же монетою, и по возможности не хуже чеканенной. Вот почему М.Г.М, рассуждая об увлечении вовлечениями, прибегает к стилистике, которую сам называет гипокритической, находя себе в этом авторитетных предшественников. Остановимся на гипокритике и гипокритическом. Во французской литературной традиции, с которой перекликается это словоупотребление, прослежены и его корни: «По-гречески гипокрит значит актёр; гипокрит был человек, который играл маску в комедии».[118] Современные английские словари к значению выражения hypocrisy очень строги, определяя его как «несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям; притворство, неискренность». Будем мягче и остановимся на ещё одном допустимом и притом не лишенном умиротворительной игривости значении слова hypocrisy - лицедейство. У нас, у русских, лицедействовать это не обязательно быть неискренним, врать. Часто мы называет лицедейством более-менее безобидное лукавство, притворство без нарочитого коварства. Подспудно самоопределяясь, М.Г.М. не раз вспоминал (как это, впрочем, делали и другие англоязычные литераторы, тот же Элиот) бодлеровские «Цветы зла»: Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!».[119] По-русски это звучит примерно так: «Лукавые речи, двойник мой, мой брат»! Во французском подлиннике начальное стихотворение «Цветов зла» озаглавлено «Au Lecteur». Почти во всех англоязычных переводах его название «To the Reader». У современных англичан и англоамериканцев reader это не только тот, кто пробегает написанное глазами, т.е. собственно читатель, но и тот, кто озвучивает написанное для какой-то аудитории, т.е. лектор. Таким образом, сегодняшний узус предполагает амбивалентность одного из самых распространённых английских слов, что, в свою очередь, располагает к игрословию. А игрословие, понятное дело, создаёт почву для лёгкого лицедейства, невинно-лукавого жонглирования смыслами. По-другому сказать, для hypocrisy. Прибегать к гипокритике не так уж и плохо. Особенно в наши дни, во времена всеразъедающей политкорректности. Политкорректность это ВИЧ культуры. Она атакует иммунитеты, веками выработанные по отношению ко всему, что смертельно опасно для устоев жизни. Устоев, тысячелетия укреплявшихся благодаря, не в последнюю очередь, христианству. Атаки на христианство – не церковь, но культуру - проводятся посредством дерзейшей неправды. Поликорректность применяет постоянно расширяющийся набор лжей: женщины, мол, неотличимы от мужчин[120]; негры такие же люди, как белые, только ещё ритмичнее; быть гомосеком не менее почётно, чем быть дровосеком. И т.п., и т.д. Конечно, засилье политкорректности это беда. Но и в беспросветности брезжит упованье. На что можно уповать? На гипокритику. Политкорректировщики агрессоры, однако не светочи разума. Они выискивают к чему прицепиться, не вдаваясь в тонкости. Они пытаются растоптать или обесценить любое мнение, которое сами способны оценить только by a face value[121], только по включениям, гипераллергенным исключительно для них одних. Значит как можно уйти от назойливого сервиса коррект-погромщиков? Путём словесной игры. Укрыв суждения под маскою лукавых рассуждений. Так в чём же спасение от гепераллергического? В гипограмматическом. Что такое гипо- вроде бы разъяснено. А что такое грамматика? «Храматыка е выськусьтво правыльно чытаты ы пысаты»[122]. А что такое правильно? Правильно это значит по правилам. Если у читателя и у писателя одни и те же правила, они понимают и уважают друг друга, оба в результате оказываются уважаемыми людьми. А почему бы с правилами не поиграть? Белочка скачет по дереву с ветки на ветку. Белочка натуральная, не адская. И дерево настоящее, ветки тоже. Однако представим, что белочка видна всем, но вот дерево с ветками видны не каждому. Тем, кто не видит дерева, белочкины прыжки кажутся бессмысленными и безопорными кульбитами вопреки правилам природы. Но на самом-то деле дерево существует. Стало быть, опора на месте, и в прыжках есть смысл. А кто этого не видит, пусть протрёт глаза. Вот так обстоят дела с грамматикой. Вообще, с тем явным и неявным, о чём шла тут речь. Со всем, из-а чего до сих пор востребована гипокритика. И из-за чего по-прежнему на скаку Маршалл Херберт Маклюэн, гипокритик. А кто так долго скачет, тот что-нибудь да значит.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Острота Льюиса Мамфорда. См.: Мумфорд Л. От бревенчатого дома до небоскреба. Очерк истории американской архитектуры. М.: 1936. - с. 66. [2] Или осмосление? Не придать ли понятию осмос значение в лёгком соответствии с принципом Ле Шателье — Брауна: если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, то в системе усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия? [3] McLuhan M. Counterblust. – L.: 1970. – p. 69. [4] Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. Образ и действительность. М.-Пг.: 1923. – с. 10. [5] McLuhan М. Op. cit. - р. 69. [6] Верно ли такое противополагание? А почему бы и нет? [7] Недолговечный (вышли два номера в 1914 и 1915 гг.) литературный журнал английских вортицистов. Эзра Паунд (Ezra Pound) обеспечил журнальным номерам содержание, Уиндем Льюис (Wyndham Lewis) - содержание и оформление. Журнал стал символом модернистского движения в искусстве Англии начала ХХ века. [8] Бластодерма (др.-греч. βλαστός — росток, зародыш + δἑρμα — кожа, слой) — слой ядер, а позднее клеток, из которых состоит зародыш многоклеточных животных с неполным дроблением на стадии бластулы. [9] О холодных коммуникациях разговор ниже. Отмечу только: в современном слэнге cool это в общем-то неплохо, однако и прежние значения этого определения (холодность, отрешенность, несердечность) из языка не ушли, что создаёт дополнительные возможности для игры с оценочными суждениями. [10] Mess, мешанина. Маклюэновский обыгрыш: the medium is the mess. [11] Le style c’est l’homme» [лё стиль сэ ль ом] («стиль — это человек») — французский фразеологизм, означающий, что по стилю человека можно судить о его характере, стиль отражает общественную индивидуальность и представляет не меньший интерес, нежели тема письма или говорения. Речь Жоржа-Луи Лекле?рка, графа де Бюффо?на 25 августа 1753 года в Луврском дворце Парижа и позже получившей название «Речи о стиле» (Discours sur le style). Сейчас ко всем прежним значениям этого афоризма добавилось ещё одно: стиль отзеркаливает природные особенности человека. [12] Юнгер Ф.Г. Язык и мышление / пер. с нем. К. Лощевского. – СПб.: Наука, 2005. - Язык – это судьба, а судьба дана лишь тому, у кого есть язык. – с. 103 [13] Царёв В.Ю. Стиль и судьба: самодвижение совокупных культурных тел//Проблемы теории и истории культуры — Деп. в М.: ИНИОН, 1993, р. № 47921. [14] Привычка — наша вторая природа, и она-то меняет природу первоначальную. Но что такое человеческая природа? И разве привычка не природна в человеке? Боюсь, что эта природа наша самая первая привычка, меж тем как привычка — наша вторая природа.. (Блез Паскаль. Мысли. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. – с. 108) [15] Хиазм (от др.-греч. χιασμ?ς) — риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов. «Раньше я думал только о любви, а теперь я только думаю». У Маклюэна есть эссе, посвященное хиазмам в Священном писании. Хиазм это также композиционный приём, распространённый в живописи и скульптуре со времён Возрождения. [16] Томас, Дилан. «О дай мне маску!»: «…словно дубом и крепкой бронёй//Мой сверкающий мозг защити//От следящих за мной» [17] Туганова 0.Э. Некоторые вопросы типологии течений в культуре современного буржуазного общества // Вопросы философии, 1977, № 8. - с. 55. [18] Выразительные возможности и культурная природа маски обговорена, как мы все теперь знаем, на нечуждом Маклюэну материале Ренессанса. - Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса". М.: 1965.- с. 459. [19] Григорян Г.П. О средствах коммуникации и судьбах человечества в поп-философии Маршалла Маклюзна // "Вопросы философии", 1972, № 10. - с. 151-155. [20] Toffler A. Future Shock. – NY: Radom House, 1970. - p. 203. [21] Зверев А. Другая музыка // "Иностранная литература", 1974, № 12. -- с. 227-231. [22] Там же, с. 230. [23] Мальстремизм это принятие данностей жизни без раболепия перед ними. [24] Давыдов Ю.Н., Родняиская И.Б. Социология контркультуры, Критический очерк. М.: 1380.- с. 170. [25] McLuhan М. Counterblast. L: 1970.- p. 5. [26] Ibidem.- p. 5. [27] Урнов Д.М. Комментарий к сборнику The Idea of Literature. The Fundations of English Criticism . M.: 1979. - p. 335 [28] Русскоязычная связка: средство – сретенье – среда. [29] Козлова Н.Н. Критика концепции массовой культуры Маршалла Маклюзна. Канд. диссерт. М.: 1978.- с. 118-136 [30] Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М.: 1978.- с. 50. [31] 7 мая 1959 года Сноу прочёл в Кембридже Лекцию Рида, озаглавленную «Две культуры и научная революция», где пожалел о разрыве между учёными его круга и литераторами. [32] Арнольдов А.И. Предисловие к кн.: Сноу Ч.П. Две культуры. М.: 1973.- с. 5. [33] Сноу Ч.П. Две культуры. М.: 1373.- с. 19. [34] Сноу Ч.П. Две культуры. М.: 1373.- с. 20. [35] Сноу Ч.П. Две культуры. М.: 1373.- с. 20. [36] Там же. [37] Сноу Ч.П. Цит. раб. - с. 21. [38] Сноу Ч.П. Там же. – с.23 [39] Рессантимент, по Ницше, это мщение из лучших побуждений. Исправительных в том числе. [40] Сноу Ч.П. Цит. раб. - с. 23. [41] А «Смерть под парусом» всё равно хороший детектив. [42] Полигисторство – многознание, почёрпнутое из разнохарактерных источников. [43] Адорно Т.В. Введение в социологию музыки. Вып. I. М.: 1973.- с. 20. [44] Козлова Н.Н, Критика концепции массовой культуры Маршалла Маклюзна. Канд. дисс. М.: 1976. - с. 10. Автор говорит об "элитарной" критике, но имеет в виду критика именно академическая (Д.М. Доналд, А.Шлессинджер и др.). [45] Гершкович Ф. Тональные истоки шенберговской додекафонии // Ученые записка Тартусского университета. Труды по знаковым системам. вып. VI. - Тарту, 1973, с. 343. [46] McLuhan М. Understanding Media. NY-L-Torontos 1966. - p. 80. [47] Ibidem. - p. 297. [48] А не основоположник новой журналистики белокочанный Том Вулф, назвавший Маклюэна мыслителем из того же ряда, что Ньютон, Дарвин, Фрейд, Эйнштейн и Павлов. [49] Исключение сделано для Дос Пассоса: статья 1951 г. под характерным заголовком «Джон Дос Пассос: техника против чувств». [50] John Dos Passos: Technique vs. Sensibility//The Interior Landscape. The Literrary Criticism of Marshall McLuhan. – NY-Toronto: McGraw Hill Book Company, 1969. – P. 49-63 [51] Адорно стал претендовать на «коперниковский переворот» с 1966 г. по выходу «Негативной диалектики». - Подорога В.А. Проблема языка) в негативной философии Т.В. Адорно //Вопросы философии, 1979, № 2. - с. 148. [52] Подробно об этом см. Педорога В.А. Цит. раб. - с. 147-154. [53] Eliot T.S. Introduction - In» Pound Ezra. Selected Poems. L., 1964, p. 11. Кант писал: "Изобрести что-то – это совсем не то, что открыть: ведь то, что открывают, предполагается уде существующим до этого открытия".- Кант И. Соч., т.6, с. 466. Маклюэн обыгрывает кантовскую оппозицию, для него изобретение, инновация, это технический акт, а открытие - культурный (разрушение «ошеломления», снятие пелены с глаз).- McLuhan М. The Arguments: Causality in the Electric World //Technology and Culture. Chicago, 1973, vol. 14, № 1, p.p. 2, 4. [54] Иванов Вяч. Вс. Значение идей М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Ученые записки Тартусского университета. Труды по знаковым системам. Вып. У1. Тарту, 1973, с. 20. [55] Eliot T.S. The Three Voices of Poetry, // On Poetry and Poets, NY: 1969. - p. 109. [56] McLuhan, M. At the Moment of Sputnik...// Journal of Communication. Lawrence, 1974, vol. 24, № 1, p. 50. [57] Идя к литературе, где «пародийно-травестирующие» формы освобождали предмет от власти языка, в котором предмет запутался как в сетях, они <…> освобождали сознание от власти прямого слова» - М.М. Бахтин. Из предыстории романного слова. (См.: Иванов Вяч.Вс. Цит. раб. - с. 28). [58] Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы соцюлогического метода в науке о языке. Л.: 1929. - с. 142. [59] Гидион 3. Пространство, время, архитектура. М.: 1984. - с. 27. [60] Mcluhan М. At the Moment of Sputnik... - p. 50-51. [61] Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: 1972. – с.51. Здесь же ссылки на другие источник, где отмечено стремление Достоевского читать газеты не для моды, но чтобы явствовала всеобщая связь всех по виду разрозненных дел. [62] Гроссман Я. Поэтика Достоевского. М,: 1925.- с. 178. [63] McLuhan М. The Argument... - p. 2. [64] Бахтин М.М. Цит. раб.- с. 13. [65] Бахтин М.М. Цит. раб. - с. 48-51. [66] В.В. Набоков, относившийся к Достоевскому, с показной отстранённостью, тем не менее, по убеждению З.А. Шаховской, неэвклидовски воспринимал пространство и был эсхатически околдован «концом», небытиём т.е. смертью. – Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. – М.: Глагол, 1979. – с. 85-90 [67] McLuhan М. The Argument…, p. 3. Кристиан Доплер умер в середине XIX века: по любым расчётам за 70-80 лет до зарождения Венского кружка, светоча Второго позитивизма. Один из творцов позитивизма первого никак не мог действовать в духе позитивизма второго. Хотя, кто знает, м.б. тут не оговорка, а ещё один намёк на преображение причинности, когда дитя - отец мужчины, когда следствие обусловливает причину. [68] Великобритания. Лингвострановедческий словарь. M.: Русский язык, 1980. - с. 225. [69] Раушенбах Б.В.. Пространственные построения в живописи. M.: Наука, 1980. – с. 222. [70] Novotny F. Sezanne und das Ende der Wissenschafflichen Prspective. Wien: 1938. - s. 232. [71] Раушенбах Б.В.. Пространственные построения в живописи. M.: Наука, 1980. – с. 223. [72] Искусность это предельное мастерство. Искусство есть поприще искусности, поприще предельности. Если пределы мастерства достигнуты, всё что нужно и возможно – это закрепление, преумножение. Если освоено совершенство, дальнейшее движение - а прогресс в расхожем понимании это дальнейшее движение - с неизбежностью уводит от совершенства куда-то не туда. Следовательно, настоящее искусство, великая искусность в прогрессе не нуждаются. Поэтому т.н. прогрессивное искусство, не требующее от художника предельного мастерства, которое не оттачивает, а ломает и корёжит художественые приёмы, искусством по сути не является, и если прогрессирует, то только как болезнь, болезнь культуры. [73] Novotny F. Sezanne und das Ende der Wissenschafflichen Prspective. Wien: 1938. - s. 144 [74] Элиот противопоставляет Льюиса и Джойса «дюжине тех умных писателей, которые пребывали в неведении насчет устарелости формы».- См.: Eliot T.S. "Ulysses", Order and Myth // The Idea of Literature. The Fundations of English Criticism. M.: 1979. - c. 224. [75] Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. М.: АСЕ:Астрель, 2011. – с. 117 – 119. Расцвечивая свою неприязнь, Хемингуэй воспроизводит нелестный по отношению к Льюису анекдот, якобы распространяемый Гертрудой Стайн. [76] Андреев Л.Г. Импрессионизм. М.: МГУ, 1980. – с. 32-45. [77] Состоялось ли посещение Э.А. По Санкт Петербурга в действительности, или оно было наркотической грёзой так до сих пор и не выяснено. [78] Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике А.Блока //Труды по знаковым системам. Вып. VII. Тарту: Изд. Тартусского у-та, 1973. - с. 389. [79] Валери Поль. Intérieur. Сб. «Чары» (Charmes, 1922) // Лившиц Б. Французские лирики XIX и XX веков. М.: Гослитиздат, 1937. – с. 123. [80] Минц 3.Г. Цит. раб. – с. 391-393. [81] Gombrich. Е.Н. Art and Illusion. NY: 1960. См. также: Mcluhan M. Understanding Media. NY-Lnd-Toronto: 1966. - p. 363; The Argument: Gausality in the Electric World. // Technology and Culture. V. 14, № 1. Chicago: 1973, p. 13. [82] Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Прогресс, I960.- с. 180. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Там жe. - с. 164. [83] Григорян Г.П. О средствах коммуникации и судьбах человечества в поп-философии Маршалла Маклюэна // Вопросы философии, 1972, № 10. - с. 152. [84] Уорф 13.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Прогресс, I960. – с. 148. [85] Уорф Б.Л. Лингвистика и логика // Там же. - с. 187. [86] Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку//Там же. – с.164. [87] Паскаль: "Вселенная - не имеющаяя границ сфера, центр ее всюду, периферия - нигде" (между прочим, в этом известнейшем афоризме – проступание менее известной максимы Николая Кузанского). У Маклюэна: «Мир, центр которого везде, а граница – нигде». - McLuhan M. At the Moment of Sputnik // Journal of Communications. Lawrence: 1974. Vol. 24, № 1 - p. 50. [88] Бергсон А. Творческая эволюции. М.- СПб.: 1914. - с. 27. [89] Новиков А.В, От позитивизма к интуитивизму. М.: Искусство, 1986. - c. 231. [90] Бергсон А. Цит. раб.- с, 27. [91] Новиков А.В. о Бергсоне: «Его «философия жизни», подменяя социальную историю «творческой эволюцией», рисовала картины победного шествия человечества (читай - буржуазного общества) сквозь «многие препятствия и, может быть, даже смерть» сеяла иллюзии о жизнеспособности буржуазии» (Цит. раб. – с. 139). Александр Васильевич на страже. [92] Различим понятия. Эсхатизм это отношение к будущему, не обязательно отрефлектированное. Эсхатологизм это всевозможные доктринальные истолкования грядущего. [93] Шестаков В. Социальная утопия Олдоса Хаксли: миф и реальность, // 0 современной буржуазной эстетике. Вып, IV. Современные социальные утопии и искусство. М.: 1976.- с. 138- 159. Сейчас, насколько мне известно, Вячеслав Павлович Шестаков перебрался на постоянное жительство в Соединённое королевство, поближе к источнику буржуазных диверсий. [94] Каким бы искренним ни старался предстать Ж.-Ж. Руссо перед читателем, его отличала некоторая неувязанность чувств - высказываемых и действительных. [95] Эвлин Беатрис Хилл для её книги «Друзья Вольтера» (1906), опубликованной под псевд. С. Г. Таллентайр. [96] До сих пор воспроизводится подмена в первоначальном переводе. Brave в названии значит не дивный, а смелый. Это ироническай двойная цитата из шекспировской «Бури» и из письма Оскара Уальда: «О смелый новый мир! С такими вот людьми//Не правда ль, человечество прекрасно!» В хакслиевской утопии всё направлено на то, чтобы истребить в людях и в мире именно смелость. [97] Хаксли 0. О дивный новый мир. М.: Азбука-классика, 2005. [98] В соревновании с массовыми коммуникациями органы управления теряют преимущества самого компетентного координатора и самого быстрого информатора, посему отсеиваются за неуспеваемость.- МсLuhan М., Nevitt B. Take to-day: The Executive as Drope-out. NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1972 [99] McLuhan M. & Gordon W. T. Counterblast. Berkeley, Calif: Gingko Press, 2011. - р. 28, 94; McLuhan M., Understanding Media: The Extensions of Man. — N.Y.: McGraw Hill, 1964. - p. 170-179. [100] Льюисовским вихрем? [101] McLuhan М. Hot & Cool. NY: 1969. - p. 392. [102] Шпеглер Освальд: «Сегодня не умеют читать. Это великое искусство вымерло еще во времена Гете». -Годы решений / Пер. с нем. В. В. Афанасьева; Общая редакция А.В. Михайловского.— М.: СКИМЕНЪ, 2006.— 240 с.— (Серия «В поисках утраченного»). – с. 85 [103] Хемингуэй, Э. Праздник, который всегда с тобой / Эрнест Хемингуэй; пер. с англ. В.П. Голышева. — М.: ACT: Астрель, 2011. — с. 104-105 [104] Козлова Н.Н. Цит. раб. – с.48. [105] Ричардс A. A. Наука и поэзия // Современная книга по эстетике. М.; 1937. - с. 320. [106] Ричардс А.А. Поэтическое творчество и литературный анализ // Новое в зарубежной лингвистике. М.: 1980. – с. 325. [107] Ричардс А.А. Там же. – с.332 [108] McLuhan M. At the Moment of Sputnik... p. 53. [109] Ричардc A.A. Поэтическое творчество и литературный [110] Malinowski B. Phatic Communication // Communication in Face to Face Interaction. – Middlesex: 1972. - p. 146. [111] Фуко М. Слова и вещи. М.: 1977. – с. 185-187 [112] Пиранделло, Луиджи. Наслаждение в добродетели. Пер. Р. Хлодовского//Луиджи Пиранделло. Пьесы. М.: 1960. – с.89. [113] Генрих IV //Луиджи Пиранделло. Пьесы. М.: 1960. [114] McLuhan. At the Moment of Sputnik the Planet became f global theather in which there are no spectators but only actors… p.55 [115] Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Роман. – М.: Молодая гвардия, 1989. – с. 85 [116] To remain a spectator — оставаться безучастным наблюдателем. [117]If you say that something such as beauty or art is in the eye of the beholder, you mean that it is a matter of personal opinion. [118] Де-Кюстин, Николаевская эпоха. М.: 1910,- с. 47. [119] Один из многих подобных случаев цитирования: McLuhan M. At the Moment… - p. 56 [120] Неотличимы добровольно, недобровольно неотличимее. Пудель пламенного интернационалиста Карла Радека добровольно – в смысле без специальной команды – начинал лизать горчицу. Если ею намазывали ему подхвостье. [121] По лицевой стоимости (англ). Т.е. в расхожем смысле. [122] Тургенев И.С. Рудин//Полное собрание сочинений. Т. 5. – М.: Наука, 1980, - с. 216
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"
|
|
| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"
|
 Marshall Herbert Macluhan. Надо бы писать и произносить: Маршалл Херберт Маклуэн. У нас произносят и пишут: Маршалл Герберт Маклюэн. Ну, значит так тому и быть. Сокращение - М.Г.М. (пригодится для разнообразия).
Marshall Herbert Macluhan. Надо бы писать и произносить: Маршалл Херберт Маклуэн. У нас произносят и пишут: Маршалл Герберт Маклюэн. Ну, значит так тому и быть. Сокращение - М.Г.М. (пригодится для разнообразия).









 Космос космосом, однако по отношению к собственно джазу и к джазовому веку Маклюэн держится достаточно отстранённо. В его зеркале заднего обзора отражения что Эллы Джейн Фицдже?ральд, что Френсиса Скотта Фицдже?ральда, можно сказать, сливаются.
Космос космосом, однако по отношению к собственно джазу и к джазовому веку Маклюэн держится достаточно отстранённо. В его зеркале заднего обзора отражения что Эллы Джейн Фицдже?ральд, что Френсиса Скотта Фицдже?ральда, можно сказать, сливаются.


 М.Х.М. довольно часто ссылался на У.П. Льюиса, поэта, беллетриста, художника, литературного критика. Льюис-художник был связан с постимпрессионизмом и потом с ар-нуво, далее с неоклассикой (у нас в России к неоклассикам отнесены В.И. Шухаев, А.Е. Яковлев, некоторые работы которых похожи на льюисовские). Вместе с У.Сикертом У.П. Льюис входил в т.н. Лондонскую группу художников, находившуюся под влиянием французских постимпрессионистов
М.Х.М. довольно часто ссылался на У.П. Льюиса, поэта, беллетриста, художника, литературного критика. Льюис-художник был связан с постимпрессионизмом и потом с ар-нуво, далее с неоклассикой (у нас в России к неоклассикам отнесены В.И. Шухаев, А.Е. Яковлев, некоторые работы которых похожи на льюисовские). Вместе с У.Сикертом У.П. Льюис входил в т.н. Лондонскую группу художников, находившуюся под влиянием французских постимпрессионистов