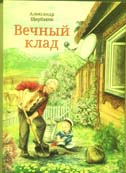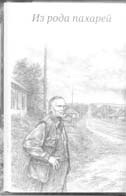| |
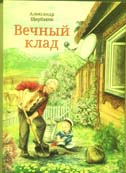
Обложка книги
|
Вышла в свет новая книга Александра Щербакова «Вечный клад» (Красноярск: ИД «Офсет», 2014. – 204 с., 1500 экз.). Она издана в серии «Книжное Красноярье», на конкурсной основе, при поддержке государственной грантовой программы для библиотек и школ края.
Вот эта книга, адресованная юношеству и молодёжи. В яркой обложке, с выразительными иллюстрациями (художник Алексей Адамёнок). О чём же она? Нет, не о том, как преследуют и стреляют. Главные «герои» её первой части даже, можно сказать, вообще не люди, а… предметы. Но предметы необычные – орудия труда, труда крестьянского, деревенского. Как известно, материалисты считают, что «труд сделал из обезьяны человека». И Богом, Творцом, ему заповедано «в поте лица» добывать хлеб свой. А уважаем ли мы людей труда? Учим ли этому наших детей? И вот – «тихая» книга для юных, «Вечный клад» – это вечные «помощники» наши: мастерок, топор, коса, пила, вилы, грабли…
Вот он – поэт и прозаик Александр Щербаков – любит эти орудия труда, занимательно рассказывает о них. Виктор Шкловский в своё время писал о таком качестве художественного текста, как остранение. Именно «остранение», умение говорить не только о чём-то экзотическом, но и о вещах обыкновенных, как о «странном», необычном, впервые нами увиденном. Вот и мы вместе с писателем как бы впервые увидели эти предметы, многое узнали о них и зауважали их. Предметы эти запечатлены в фольклоре. К примеру, коса, по-местному, литовка. Приводит автор и загадки: «Травы поем – зубы притуплю, песку хвачу – опять навострю», «Щука понура хвостом вильнула – леса пали, горы встали», и поговорки и присловья: «Нашла коса на камень», «Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой». «С косой в руках погоды не ждут»… Объясняет, почему сложилась такая пословица: «Ведь тут не одна игра слов, а целая наука».

Иллюстрация
из книги
| |
Но главное, подчёркивает исподволь, – это всё же человек. «Наверное, никакой другой инструмент крестьянского обихода так не опоэтизирован, как она, коса вострая. И дело тут не в орудии труда как таковом, а в атмосфере, которая окружает его применение: летняя благодать, цветущие и благоухающие травы, пёстрое многолюдье сенокосной страды, самой дружной и весёлой из деревенских страд». Или в главе о топоре: «Ах, как он красив, как хитёр и ловок в руках умелого человека! Недаром говорят об изрядном мастере: «Так и играет топором!» А иные мастера настолько сживаются, сливаются с этим инструментом, что начинают приписывать ему некую самовольную, даже мистическую силу. И не случайно живет в народе легенда, что старинный мастер Нестор, срубивший знаменитую 22-главую церковь Преображения Господня в Кижах, бросил свой топор в Онежское озеро со словами: «Не было такой и не будет…»
| |
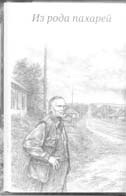
Иллюстрация
из книги
|
Радость физического труда, гордость мальчишки от того, что он умеет «сам», что владеет иным инструментом, как взрослый. Нет, однако, слёзного умиления всем прошлым: «Мне и теперь кажется просто чудовищным этот каторжный труд продольных пильщиков, вручную разрезавших брёвна на доски». «Пацаном я пробовал брать грабки в руки, они мне казались почти малоподъёмными. А ведь «на грабки» косили в основном женщины. Кашивала колхозные хлеба и моя мать»… Невольно вспоминаются строки одного из стихотворений Щербакова о крестьянском труде:
Солон честный хлеб в крае нашенском
(Помогай, трава-одолень) –
Всё на полюшке, всё на пашенке
Каждый Божий день,
Каждый Божий день…
Однако, несмотря на это, «первые радости» связаны именно с ним, с трудом: «Немало утекло воды в Тубе с той поры. Многими дорогами пришлось пройти и проехать мне. Но никогда в жизни у меня не было лучшей работы, чем возить на лошадке с далёкой лесопилки свежий тёс, так чудно пахнущий смолой и нашатырём». И хотя автор о себе пишет: «Чем дольше живу, тем меньше доверяю всяческим мемуарам», но ему мы верим.
Во второй части книги писатель рассказывает о людях Сибири, нашего Красноярска и края. Нормальные это люди, хорошие, с открытой душой. Начинает автор с самых «ближних», со своей крестьянской родовы. И когда говорит о себе, то, выражаясь по-нынешнему, позиционирует свою личность не как известного поэта и прозаика, а как потомка хлеборобов, родившегося и выросшего в старинном сибирском староверческом селе Таскине. Он добр к людям, любит физический труд, уважает деревенских умельцев…
Ещё в «старой» России сложились как бы два уровня оценки личности. В образованном обществе человека ценили за интеллект, просвещённость и воспитанность. В народе же – за доброту, трудолюбие и религиозность, благонравие. Александр Илларионович говорит о том, что его семья, хотя и не была глубоко религиозной, но жила, традиционно следуя евангельским заповедям, а не противостоя им…
В последние годы положение литературы в нашей стране сильно изменилось. Внушают нам, что, в сущности, не нужна литература людям.

Иллюстрация
из книги
| |
Ну, не то чтобы совсем не нужна, однако её назначение – скрашивание досуга, и не более. «Литература – игрушка. В нормальной стране она не может иметь важного значения» (Борис Акунин). Русская литература складывалась в особых условиях. И это длилось веками, это не порождение советского прошлого. Исстари у нас практически не было публицистики, в обычном её понимании, общественное мнение формировалось, хранилось и передавалось в рамках художественной литературы. Вспомним хотя бы «Слово о полку Игореве»… На литературе воспитывалось молодое поколение, в диспутах о литературных героях, их поступках и «линиях» жизни. Не на бесконечных псевдосудах и пересудах, демонстрирующих самые низменные поступки и побуждения, приучающих людей (и детей!) относиться к ним как к рядовым явлениям, «обычным проявлениям человеческой натуры». Нет, «человек – это звучит гордо!»
Герои Щербакова – сибиряки, не все по рождению, но все по духу. В юношеском возрасте нужно знать про таких людей, живших и живущих рядом. Это люди, которыми могут гордиться их молодые земляки: писатель Виктор Петрович Астафьев, академик Леонид Васильевич Киренский, легендарный директор совхоза и подвижник сельской культуры Анатолий Иванович Ярошенко, учёный-охотовед, «медвежатник» Борис Петрович Завацкий, пчеловод Иван Антонович Гаврилов, по почину которого воздвигнут храм в Нижнем Ингаше… Великие труженики красноярской земли.
А ещё русские люди поют. Любят петь. И это тоже их «вечный клад». Рассказывает Александр Щербаков о том, как пели Виктор Астафьев, «крестьянский запевала» Анатолий Ярошенко, «простой русский старик», труженик земли Никифор Алексеевич Алиферов… «Загадочны и удивительны судьбы песен, в особенности народных, которые передавались буквально из уст в уста и так разносились по всей Руси-матушке». А когда петь, «она сама скажет», песня то есть.
Ещё в советские времена мы разделили Родину на «большую» и «малую», а Родина у человека одна. И любовь к ней, патриотизм – это не «стыдно», это правильно.
Для молодых, говорят, надо писать или никак, или хорошо. Александр Илларионович Щербаков пишет хорошо. Это мы, красноярцы, давно знаем. Ждём от него новых книг.
Глава из повести «ВЕЧНЫЙ КЛАД» [кликните, чтобы прочитать].
ГДЕ СЕРП ГУЛЯЛ…
Глава из повести «Вечный клад»
1
Многие читатели, конечно, догадались, что в заглавии с некоторой вольностью воспроизведены слова из хрестоматийного стихотворения Фёдора Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Они открывают вторую строфу, которая полностью звучит так:
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, –
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Хотя, пожалуй, большей известностью пользуется не начальная, а две заключительные строки её. Обычно их приводят на уроках литературы как яркий пример «говорящей» детали – паутины на борозде – и выразительного эпитета «праздной», свидетельствующих о цепкой наблюдательности и высоком художественном мастерстве автора. Возможно, приводят с лёгкой руки Льва Толстого. По свидетельству современников, встречавшихся с ним, Лев Николаевич часто хвалил эти тютчевские строки, особенно восхищаясь метким определением осенней борозды, которое «на многое намекает».
И ведь действительно за этой паутинкой, сияющей на опустевшей, «праздной» пашне, встаёт целая картина сельской жизни. Осень. Последние ясные деньки. Отдыхающие поля. А вместе с ними отдыхающие от трудов праведных и жнецы-землепашцы, которые, убрав хлеб, снова подняли сохою землю к пласту пласт, подготовили для будущего урожая и оставили пустовать до весны. И воцарились тишина, покой и умиротворение там, где ещё недавно «бодрый серп гулял…»
Потому, наверное, и особая слава у серпа среди прочих инструментов, что он венчает сельскохозяйственный год, сопровождает и даже сам ведёт жатву, уборку главного для земледельцев урожая – хлебного. Иные же достоинства его не столь очевидны. Он весьма невелик, предельно прост по замыслу и устройству. И все толковые словари, старые и новые, словно сговорившись, определяют его тоже на удивление просто и однообразно. А именно – как ручное крестьянское орудие в виде «кривого» или «сильно изогнутого» «мелко зазубренного ножа» для срезывания с корня хлебных злаков.
Давно замечено, что лучше всего внешний облик серпа передаёт молодая либо ущербная луна, то есть находящаяся в начальной или же в последней фазе, если выражаться наукообразно. Потому, должно быть, словосочетания «серп луны», «лунный серп», а то и «серп на небе» мы воспринимаем уже не как метафору, а как привычное параллельное название этого небесного ножа, изогнутого серебристым серпом. Правда, без ручки, в отличие от земного, у которого она обязательно имеется, и называют её, понятое дело, серповищем – по аналогии с топорищем, косовищем и прочими «ищеми».
Деревянная рукоятка серпа, как правило, бывает фигурной «под руку», выточенной с большой любовью и тщанием и даже – окрашенной. Видимо, в знак особого уважения к этому «хлебному» инструменту-помощнику. По крайней мере, таковыми были серповища в пору моего деревенского отрочества, когда их зачастую сами выстругивали, вытачивали наши мастера на все руки. А вот железко серпа, изогнутое полукругом и мелко зазубренное с внутренней стороны, бывало исключительно заводского изготовления. На подобное изделие не замахивались нашенские кузнецы. Возможно, насечка зубчиков была для них слишком тонкой и кропотливой работой, а может, не находилось такой твёрдой стали, которая приличествует жатвенному ножу.
Хотя – как сказать… Ведь, кроме серпа для жатвы злаковых, водился на иных подворьях и отдельный – для прополки крупных сорняков, который был более грубым и тупым, и назывался «серпилень». Я лишь однажды видел такой у наших деревенских соседей – старообрядцев: толстоватый, со следами синей окалины, он показался мне самокованным. И, возможно, это его собрата имела в виду старинная поговорка, утверждавшая, что тупой серп режет руку пуще острого. Хотя в наши времена и траву, если возникала надобность, большинство селян срезало не какими-то там серпиленями, а обычными хлебожатными серпами с фабричным ножом, да и рукояткой.
Но всё же, коль назвали мы первые из производных от серпа, логично будет сделать небольшое отступление и коснуться некоторых других родственных слов и предметов. Их немало. В одном словообразовательном ряду стоят, к примеру, серпик, серповище, серпник, серпянка, серповой, серповидный, серпообразный, серпастый, серпоклюв, серпорез… Все они в основном понятны без лишних толкований. Стоит разве только напомнить, что серпник, серпоклюв, серпорез – это названия трав, серпянка – хлопчатобумажная ткань, ряднина вроде грубой марли, а серпастый – вообще, новое словцо, придуманное поэтом Владимиром Маяковским, большим любителем неологизмов, специально для броского определения советского паспорта, «серпастого» и «молоткастого».
Однако насчёт словесных корней самого серпа, в отличие от пил, вил, лопат и прочих тяпок, сказать что-либо определённое затруднительно. Правда, такие созвучные ему слова, как «серпантин» (цветная бумажная лента, которую бросают в танцующих на увеселительных тусовках, или дорога, что вьётся змейкой в горах), «серпентин»(минерал, напоминающий змеиную кожу), да и «серпентарий»(питомник для ядовитых змей, где их «доят» фармацевты), явно происходят от латинского слова serpent (змея), но неужели и наш серп… Очень уж не хочется, чтобы это крестьянское орудие труда, столь близкое и родное русскому сердцу, тоже происходило от какой-то латинской змеи. Или от змея. Даже с учётом того, что последний в евангельском поучении «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», служит символом разумности. Кто первым назвал серп таким именем за его характерный изгиб, скорее имел в виду просто ползучего гада. Обидно…
Но вот пока нет у меня на примете иного слова, более подходящего в прародители трудяги-жнеца. Не предлагать же, право, подмосковный град Серпухов либо траву серпий, идущую на жёлтые органические краски и так любимую всеми кошками, что в народе её зовут кошкиным ладаном. И нам остаётся считать, не теряя достоинства уважаемого инструмента, что наш серп ни от чего, ни от кого не происходил, наш серп гулял сам по себе…
2
Должен признаться, что мне лично ни разу не доводилось жать серпом зрелые хлебные злаки, а приходилось лишь резать траву, притом зачастую самую банальную – сорную. Я и сегодня держу в дачном хозяйстве серпец, подоткнутый в кладовке за стропилину. Изредка беру его, чтобы пройтись по приствольным кругам яблонь, ранеток, ягодных кустов, где трава растёт по-особому буйно. Случаются и порезы на руках, как бывало в крестьянском отрочестве. Но, слава Богу, не глубокие, так, рядовые царапины, которые быстренько подсыхают и затягиваются. Не в пример тем, далёким, следы от которых мы носили на ладонях и предплечьях по всему лету. А сосед мой Пашка Звягин однажды нанёс серпом себе такую рану, что наверняка и поныне ходит с корявым рубцом.
Теперь за давностью лет я уж не припомню точно, зачем ему во двор потребовалась свежая трава. Для приболевшей ли коровы, отставленной временно от пастьбы в стаде, для телёнка ли с поросёнком, а может, и для всей живности вместе, но только Пашка взял острый серп, бросил на плечо рогожный куль, огромный, как матрасовка, и направился в луга за травой по Юшкову проулку. Здесь-то мы с Ванчей Тёплых, другим моим закадычным приятелем, и встретили его. А поскольку Пашка был у нас признанным вожаком (по-нынешнему, авторитетом), то охотно вызвались помочь ему и потопали за ним в сторону ближайшего Арсина лога. Летний день клонился к вечеру, но ещё вовсю светило солнце, от земли веяло теплом, и лишняя прогулка «на природу» была нам в радость.
Уже сразу за поскотиной, в лощине, под наши босые ноги легло ковром замечательное разнотравье с частыми головками красного клевера и белыми зонтиками аниса. Пашка нашёл его вполне подходящим для заготовок корма и тут же приступил к делу. Захватывая левой рукою горстки травы, он ловко подрезал её серпом, зажатым в правой, и клал рядком на стерню. А мы с Ванчей собирали эти зелёные пучки и запихивали в горловину ёмкого куля. Свежесрезанная трава приятно пахла анисом и пикульником. Работа наша спорилась. Мы оживленно разговаривали о своих ребячьих делах…Но вдруг Пашка резко замолк, побледнел лицом и, отбросив серп, поднялся.
– Змея? – вырвалось у меня подозрение.
– Хуже, – загадочно сказал Пашка.
И только тут мы увидели, что с левой руки его, которую он держал на отлёте, каплет, почти ручьится кровь. А подойдя поближе, оторопели: ребро ладони, от основания мизинца к запястью, было срезано напрочь, красная мясная долька висела на одной кожице. Мы растерянно смотрели на Пашкину кровавую руку и молчали, не зная, что делать. Первым нашёлся сам пострадавший атаман:
– Рвите рубаху! – скомандовал он.
Тотчас поняв замысел командира, я покосился было на свою видавшую виды безрукавку, но Пашка опередил меня:
– Рвите мою! – бросил он почти сердито и сам начал здоровой рукой расстёгивать верхние пуговицы. Мы помогли ему стянуть рубашку, которая тоже оказалась далеко не новой, что, впрочем, сошло за достоинство, ибо помогло нам без особых усилий располосовать её на длинные ленты.
Приложив отрезанный кусок плоти к месту, Пашка туго замотал руку, а мы повыше запястного сустава стянули её тряпочным жгутом, чтобы остановить кровотечение. И уже без лишних разговоров двинулись гуськом в деревню. Пашка шёл впереди, Ванча, чуть приотставая, поддерживал его за локоть, а я семенил сзади, таща на спине полкуля травы, в которую был сунут и злополучный серп.
Наш лучший в окрУге фельдшер дядя Миша, к которому мы догадались препроводить Пашку, прямо на дому обработал его пораненную руку и забинтовал настоящим бинтом, однако отставший ломтик мяса, державшийся на коже, просто отстриг, решив, что он не приживётся. И у Пашки, как уже сказано мною, на ребре ладони остался грубый шрам на всю жизнь. Памятная метка о незадачливом походе за травой с таким лёгким да ловким, однако и весьма опасным инструментом. Не зря, видно, мы, встречаясь в жизни с чем-либо неприятным и болезненным, невольно вспоминаем народное присловье: «Как серпом по шее…» А у иных вырывается при этом и словцо покрепче – о более чувствительных частях тела.
Кстати, когда я впервые прочитал или, может, услышал в песне строки поэта Некрасова: «Приподнимая косулю тяжёлую, Баба порезала ноженьку голую – Некогда кровь унимать!», то, помнится, подумал: «Это как же она, милая, косулей-то порезала ногу? Ведь коса – на длинном косовище, и лезвие довольно далеко отстоит от «ноженьки». При косьбе травы косой-литовкой разве что «подрезают пятки» впереди идущему косарю, если он зазевался. Да и то их подрезают, лишь образно говоря. А всерьёз порезать свои ноженьки-рученьки можно скорее серпом. Это я знал сызмала по личному опыту. Ибо мне приходилось с серпом в руках бороться с сорняками не только в отцовском огороде (особенно – со жгучей крапивой вдоль городьбы), но и на общественных полях, в том числе – и хлебных.
3
Теперь, наверно, удивятся многие, если я скажу, что мы, деревенские ребятишки, когда-то пололи зелёные поля злаковых культур (да, да, всходы пшеницы, ржи, овса), притом делали это с помощью серпов. Ныне едва ли кто полет огромные хлебные полосы, тем более – вручную. Слишком уж хлопотно и невыгодно. А в прошлые времена это было привычным делом. По крайней мере, в нашей четвёртой бригаде, в которой бригадирил мой отец. Мы, мальчишки, девчонки, в пору каникул собирались в небольшие звенья, человек по пять – по семь, брали серпы и, вытянувшись этаким фронтом, шли в атаку вдоль поля по междурядьям, срубая на пути колючий осот и жабрей, жирный молочай, кусты кислицы с белыми кашками на стеблях и прочие злостные сорняки, вымахавшие до особо наглых размеров.
Забавная деталь. Эти наши прополки хлебов нередко прерывались грозами и ливнями. И вот когда, вынужденные оставить работу в поле, превратившемся в грязное месиво, мы бежали домой, то при каждом громовом ударе дружно выбрасывали из рук наши серпы, кто на дорогу перед собой, а кто и в воздух, точно бумеранги. Некоторые при этом, чаще – девчонки, более непосредственные в выражении чувств, испуганно творили молитву и размашисто крестились. Было такое поверье: отбрось от себя серп во время грозы, иначе – убьёт…
Так поступали и взрослые жнецы, точнее сказать – жницы, ибо жатва серпом была делом почти исключительно женским. И мне, как ни странно это ныне сознавать, довелось ещё видеть собственными глазами настоящих жниц, срезавших серпами зрелые хлеба. Зачастую – рожь, потому как она первой подходила к жатве, когда большая хлебоуборочная страда только начиналась, и жнейки да комбайны лишь настраивались на неё, тарахтя возле кузницы. А также и потому, что хлебостой ржи обычно удавался таким густым и высоким (по слову отца, заедешь на лошади – и дуги не видно), что косить его жнейками, а тем более комбайнами было несподручно. К тому же комбайнов, тогда это были одни прицепные «Коммунары» и «Сталинцы», на уборку всех хлебов в колхозе не хватало.
Вместе с другими крестьянками работала жницей и моя мать. Она, с серпом на плече, уходила на жатву рано, не успевая толком поесть, и когда жали рожь на недальней полосе над озером Пашиным, я приносил ей в поле обед. Всё было почти как в стихотворении Тараса Шевченко «Жница», которое мы учили в школе наизусть. Если помните, там героиня видела во сне идиллическую картину их с мужем крестьянского счастья: «Они с лицом весёлым жнут / На поле собственном пшеницу, / А дети им обед несут… / И тихо улыбнулась жница». Наверное, что-то подобное переживала и моя мама. Она тоже встречала меня с тихой улыбкой и, словно бы делясь с товарками своею радостью, каждый раз не без гордости говорила: «О-о, кормилец пришёл! Не пора ли и передохнуть, перекусить?»
Но прежде чем присесть вместе с матерью перед стеною ржи с домашними котомками и корзинками за нехитрый обед, жницы добивали свои урочные снопы и постати. А я, словно завороженный, следил за работой наших мастериц. За тем, как они методично забирали рукой пучки стеблей с колосьями, подрезали серпом у самых корней и клали рядом на жнивьё. Когда накапливалась ладная охапка, скручивали из очередного пучка этакий соломенный жгут, называемый перевяслом, и туго опоясывали им собранный сноп. Готовые снопы устанавливали в круг, двенадцать на попа, колосьями другу к дружке, один «в навершие» (по числу апостолов с Учителем их) – и получался тот самый суслон, о котором уже говорилось в моих заметках.
Помнили Спасителя крестьянские предки наши. Когда «на барском поле жали», помнили, и когда – на колхозном, не забывали. И свято верили, что Он не оставит нас, грешных, «труждающихся и обремененных», иначе зачем бы научил главной молитве на все времена, обращенной к Отцу с такими пронзительными словами, полными надежды на Его милосердие: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Надобно заметить, что по неписаным правилам жали хлеб насущный молча, в благоговейной тишине. А песни пели по дороге домой. При этом нередко звучали и песни о матушке-жатве, которые мне тоже самому доводилось слышать. Особенно запомнилась одна из них. Должно быть, потому, что её охотно выводили не только голосистые жницы, но и любил напевать под нос мой родитель, по натуре певун невеликий, когда бывал в добром настроении: скажем, едучи с поля в своих дрожках после удачного трудового дня либо мастеря что-нибудь ладное в домашней столярке под навесом. Доныне точно не знаю, истинно народная эта песня или «авторская», но, похоже, старинная, из глубин крестьянского житья-бытья.
Раз полоску Маша жала,
Золоты снопы вязала,
Молодая… Э-эх, молодая!
Утомилась и сомлела,
Это наше бабье дело,
Доля злая… Э-эх, доля злая!
Ручная работа жниц была, без сомнения, тяжёлой и утомительной (это ж сколько горстей хлебных колосьев требовалось набрать и срезать, чтобы связать каждый сноп, и сколько раз поклониться каждому!), однако и поэзия серповой жатвы очевидна. Недаром она запечатлена во множестве картин старинных художников и не менее часто встречается в стихотворениях классических поэтов. Вслед за тютчевскими строками нетрудно вспомнить, к примеру, и лермонтовские: «Колосья в поле под серпами / Ложатся жёлтыми рядами…» Любопытно, что и сам народ-труженик, вечный пахарь и жнец, щедро опоэтизировал нелёгкую жатвенную страду вместе с главным её многовековым орудием – «бодрым» серпом. Начать с того, что отправной месяц жатвы в народе красочно и образно называют не только зарев, но и жнивень, жатвень или серпень. А числу серпов-серпеней, гуляющих по нашим пословицам, поговоркам да загадкам, вообще счёту нет. Из ряда последних могу привести хотя бы эти золотые крупицы народной поэзии и мудрости: «Ни свет ни заря, пошёл горбатенький со двора» (ох, раненько начинались страдные дни у наших отцов-матерей!); «Сутул, горбат, всё поле обскакал». Или о том же, но в более «загадочном» варианте: «Сутуло, горбато по полю гуляло, все загоны пересчитало». Не из этого ли кладезя черпал и классик, когда писал своё: «Где бодрый серп гулял…»?
Про месяц же страдный, жатвень да серпень, пословицы говорят: «В августе серпы греют, вода холодит», «В августе рожь пошла под нож». И на Евстигнея-житника, что отмечался 18 августа, по старинному обряду заклинали жнивы, низко кланялись на все четыре стороны и призывали мать сыру землю на помощь с таким зачином: «Ниву сожали, страду пострадали, гибкими спинами, вострыми серпами…» Немало и доныне живёт в народе обрядовых песен, связанных с жатвой и серпом. Приходилось слышать, как поют ещё самодеятельные фольклорные хоры и группы по нашим городам и весям: «Жали мы, жали, жали пожинали, Жнеи молодые, серпы золотые…» Или – ритмом пободрее: «Уж вы жнеи, вы жнеи, жнеи молодые! Жнеи молодые, серпы золотые!»
А в некоторых местах сибирской глубинки сохранился яркий осенний праздник Последнего снопа. Нередко его отмечают на день Третьего Спаса. Многие читатели знают или хотя бы наслышаны о втором, который в народе зовут Яблочный Спас и на который освящают яблоки и мёд. Наверно, не у одного меня он вызывает в памяти замечательно живописный рассказ Ивана Бунина «Антоновские яблоки», полный августовского, яблочноспасовского духа. Однако есть ещё и Третий Спас, более поздний, называемый Хлебным. В пословице о нём говорится: «Третий Спас хлеба припас». Или «пирогов».
Конечно же, день Последнего снопа (как и первого) всюду праздновали и празднуют по-своему. Однако неизменным остаётся обряд «заламывания бороды». Это когда по окончании жатвы на полосе оставляют не срезанной «бородку» колосьев, завязывают её узлом и приклоняют к земле. Совершая это действо, обязательно приговаривают: «Миколе на бородку, чтобы святой угодник и на будущий год не оставил без урожая». Почему именно Миколе, то есть Николаю Чудотворцу? Да потому, что это издревле на Руси нашей крестьянской любимейший святой – покровитель земледелия и скотоводства, хозяин вод земных, милостивый заступник от всех бед и несчастий.
Не менее любопытен и такой обряд. Окончив жатву, усталые женщины-жницы втыкали серп в последний сноп и катались по стерне, приговаривая: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку, на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Да, силушка крестьянкам, не ведающим отдыха, и впредь нужна позарез, ибо дел у них невпроворот – молотить хлеб, мять лён, прясть, ткать, вязать… Но главное – жатва хлебов, завершающая земледельческий год, – всё же сделано, слава Господу и всем святым угодникам Его.
Думается, тому, кто знает пусть не из собственного опыта, но хотя бы из первых рук обо всех этих жатвенных трудах и заботах, народных традициях, преданиях и ритуалах, не надо объяснять, почему именно серп, при внешней его непритязательности, давно стал символом крестьянского мира. И вполне закономерно входил ещё недавно в государственную эмблему, вместе с молотом олицетворяя власть трудящихся в стране, союз рабочих и крестьян, их мирный созидательный труд. Серп и молот были изображены на гербе и флаге всей державы, а также на гербах и флагах её союзных и автономных республик. Кроме того, накануне Великой Отечественной войны, словно в предчувствии скорой потребности в героических подвигах не только боевых, но и трудовых, была учреждена особая награда – золотая медаль «Серп и Молот», которая в комплекте с другими знаками признания заслуг вручалась Героям Социалистического Труда. То есть лучшим труженикам страны.
А ещё серп и молот были важной деталью, венчавшей, пожалуй, самый известный монумент прошлой эпохи «Рабочий и Колхозница», созданный Верой Мухиной. Сначала эта величественная скульптурная группа покорила мир, будучи установленной в советском павильоне на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, а потом много лет украшала вход на ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства) в Москве. Крестьянка и рабочий, несущие серп и молот, символизировали движение народа к коммунизму. Однако, увы, победил капитализм. И среди его приверженцев нашлись горячие головы, которые потребовали убрать серпы и молоты со всех гербов, флагов и знамён, даже с боевого красного, под которым отцы и деды сражались насмерть с фашистским нашествием. А знаменитую скульптуру, увенчанную ими, демонтировали как якобы устаревшую.
Однако времена меняются. Недавно крестьянка и рабочий с серпом и молотом, обновлённые, опять появились у Выставочного центра в столице. И в руках 24-метровых фигур из нержавеющей стали снова вознесены к небу Серп и Молот. Хочется думать, в нашем обществе к ним возвращается уважение. Труд и мастерство, как старая любовь, не ржавеют. И мне, может, лучше было бы начать эти рассказы-размышления о непреходящей ценности вечных наших помощников именно с серпа.
Хотя… Поставить точку серпом тоже, согласитесь, неплохо.
Из повести «ВСТРЕЧЬ ТУНГУССКОМУ ЧУДУ» [кликните, чтобы прочитать].
ПОСЛЕДНИЙ СКИТ
Из повести «Встречь тунгусскому чуду»
Сложный участок миновал, пошли плёсы и небольшие перекаты, вполне подсильные винту теплохода. Проводка лоцмана не требовалась. Но Олег Щукин (а с ним и Андрюшка) всё равно целыми днями торчал в рубке, наблюдая за дикой рекой, любуясь тайгой и горами и травя бесконечные истории о прежних походах по Тунгуске, о быте и нравах здешних селений, о приключениях речников. Приключений этих было столько, что, видно, на долю нынешних флотских с «Саратова» уже не осталось.
Поэтому они, несколько утомлённые однообразным подъёмом по реке, рады были каждому причалу, вносившему оживление. Ну, а сообщение капитана о том, что у Щёголевской заимки будет долгая стоянка, все восприняли с ликованием. Бывалые речники надеялись выйти на берег, чтобы встретиться со старыми знакомыми Щёголевыми, дедом Евстихием и его сыновьями, известными не только своим отшельническим бытом, но и гостеприимством. Новички же предвкушали экзотическое знакомство с этим «староверским гнездом», отголоском далёкой исторической драмы, обломком великого раскола русского православия. О Щёголевых ходили легенды чуть ли не как о жителях необитаемого острова, ведущих натуральное хозяйство на манер Робинзона Крузо и фанатично соблюдающих суровые законы аскетического старообрядчества. А уж что избушка, что домашняя утварь, что старинная речь хозяина с хозяйкой, что божественные книги и чёрные доски на стенах – «чистый семнадцатый век»…
И вот пёстрым деньком с холодным ветром, с краткими солнечными просветами меж бегучих туч, то и дело сеявших мокрым снежком, причалил «Саратов» к Щёголевской заимке. Никакой пристани здесь, естественно, не было, и лишь благодаря горбатой крутизне берега удалось подойти довольно близко к нему, так что трап, брошенный с носа теплохода, уткнулся в песчаную кромку. Не было видно и никакой заимки. Лесистый взлобок берега был пуст. На его откосе не валялись даже ржавые бочки из-под горючего – обычные в этих местах свидетели редких прибрежных селений или охотничьих стойбищ.
Кобылинский распорядился о вахте на корабле, передал командование старпому, и небольшая группа речников, включая юнгу Андрея, во главе с капитаном и лоцманом спустилась по шаткому трапу на берег. На взгорке между деревьями обнаружилась неторная тропинка, и команда гуськом вслед за Кобылинским направилась по ней. Прошла через лес, через сухую закраину болота, поднялась по откосу распадка, прежде чем на открытой поляне показался низкий, но довольно длинный дом с плоской крышей, два или три надворных строения, примыкавших к нему. Залаяли и бросились гостям навстречу собаки. Они были удивительно похожи одна на другую, небольшие, поджарые, востроухие, и различались только мастью – серой, палевой и чёрной.
– Ого, трёх мастей со всех волостей, – заметил по этому поводу лоцман Щукин.
Однако нотка страха, мелькнувшая в его бодром голосе, оказалась напрасной. Собаки, немного побрехав для приличия, сменили гнев на милость, даже стали ластиться к гостям, доверительно покачивая головами и скребя по тропе передними лапами, точно расшаркиваясь. Было похоже, что пришельцы здесь не такая уж редкость.
Впрочем, кроме собак никто навстречу речникам не вышел, что Андрея несколько обескуражило и заставило вспомнить известное присловье о незваном госте. Но топавшие впереди капитан и лоцман-батя были невозмутимы и уверенны, словно шли к себе домой или, по крайней мере, к закадычному другу, неся радость долгожданного свидания, и это его успокаивало. Кроме того, преодолеть некоторую неловкость вторжения помогало любопытство, которое прямо-таки распирало юного морехода и довлело над всеми другими его чувствами и ощущениями. Ведь он шёл не просто к старикам-отшельникам, поселившимся на необитаемом берегу таёжной речки, а шествовал прямиком в далёкую историю, погружался в «преданья старины глубокой»…
Прирубленные к избе сенцы оказались открытыми, и вожак-капитан, не раздумывая, с ходу шагнул в дверной проём. Однако лоцман, только что дышавший ему в затылок, не рискнул следовать за ним. Он как-то уж слишком панибратски бросил вдогонку командиру корабля: «Дуй в разведку!», – а сам остановился возле крылечка и стал закуривать.
Остальные флотские тоже подтянулись к крылечку, состоявшему всего из трёх плах, и вслед за лоцманом хотели было закурить, чтобы скоротать время в ожидании разведчика, но не успели и вынуть папирос, как из сеней вынырнул смуглый паренёк лет семнадцати, с длинными чёрными волосами, в модной синтетической куртке с сияющими бляхами и заклёпками и с транзистором в руке.
– Проходите, дед зовёт, – сказал он без особого радушия.
И, сказав это, зачем-то включил транзистор так громко, что на звуки разухабистой музыки в тихих лесах и распадках окрест гулко отозвалось разноголосое эхо. Речники ждали чего угодно, но только не этого. Появление гривастого меломана здесь, в таёжной глуши, в «старообрядческом гнезде», почти что в ските, привело их в замешательство, и они, несмотря на полученное приглашение, продолжали топтаться возле крылечка, пока не вышел капитан и не спросил сердито:
– Вы что, особого приглашения ждёте?
В избе было довольно сумеречно. Гостей встретила ветхая старушка, повязанная чёрным платком, в тёмной кофте и длинной юбке с передником, и пригласила присесть на скамью. Все молча прошли и сели. Андрюшка с любопытством огляделся. Изба была самой обычной, типично сибирской, с большой русской печью, с полатями, лавками вдоль выбеленных стен, с иконой Божьей Матери в переднем углу. В другом же, смежном, стоял невысокий шкаф или некое подобие комода. На нём лежала стопка книг в старинных переплётах. Двухстворчатая дверь в горницу была приоткрыта, и в проёме виднелись огромные настенные часы, каких Андрей не видывал сроду. Коричневая деревянная дверца их была украшена налепной резьбой. Сквозь стекло бронзовел луноподобный маятник, который покачивался совершенно беззвучно и медленно, словно во сне.
– Что скажете, корабельщики? – раздался вдруг хрипловатый голос от порога.
И только сейчас Андрей заметил колоритного старика в светлой просторной рубахе, низко, почти по чреслам схваченной пояском, лобастого, крючконосого, с рыжеватыми усами и сквозной бородой. Он, должно быть, незаметно вышел из закутка, прикрытого занавеской, и теперь сидел на железной кровати, свесив ноги в шерстяных носках. По красноватым глазам и как бы застывшей улыбке под обвислыми усами было видно, что старик не совсем трезв.
– Это дед Евстихий, – с опозданием представил всем хозяина лоцман.
Щукин тепло обнял его и, пожимая ему руку, продекламировал:
– Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, одолели все стихии и явились к Евстихию».
По той свободе и бодрости, с которыми лоцман произносил это, все поняли, что имеют дело не с сиюминутной импровизацией и хозяин её слышит не впервые, но он всё же с удовлетворением покачал головой, неожиданно задорно и молодо ударил ладонью по коленке и рассмеялся:
– Спасибо, не забываете деда Евстихия. Ну, садитесь поближе к столу. Достань нам, бабка, закусить, чем Бог послал. Правда, особых разносолов не ждите, вы уж не первые сёдни у меня, да и пооскудели к весне наши запасы.
– Ничего, ничего, не беспокойтесь, – привстал судовой артельщик Валера, скромно помалкивавший до сей поры, и широким жестом богатого гостя расстегнул кожаный баул, который нёс всю дорогу сам, никому не доверяя. – Мы тут кой-чего прихватили у кока.
И вот на столе появились хлеб, малосольные хариусы, консервы, чай, сахар… И водка. Бабка, молча исполняя задание хозяина, поставила солёные грибы, толчёную картошку, отварную сохатину. Дед ещё раз пригласил всех к столу, и сам подсел на краешек скамьи.
– Меня уж простите, я уж оскоромился. Заходили перед вами капитаны Михаил да Василий, тоже не обходят нас, каждую вёсну с караваном бывают…
Наши корабельщики по команде лоцмана Щукина, который, сняв штормовку и зюйдвестку, восседал в чёрном кителе с золотыми нашивками и вполне годился на роль тамады, выпили по рюмке, стали закусывать. Разговор пошёл о нынешней навигации, о старых друзьях и знакомых. Бабка молча стояла у печки и слушала. Большой радости на её лице не отражалось. Однако не было и неприязни. Видимо, она уже привыкла к этим весенним нашествиям речников, к угощениям и разговорам, и принимала их с равнодушной покорностью, как дождь, как снег, как ветер. Дед же Евстихий, хоть и не приложился к рюмочке, но сидел весёлый и довольный, беседовал охотно. Всё больше вспоминал старинку, когда судов по Тунгуске ходило меньше, но речник был вроде крупней, значительней и постоянней. Из года в год он видел одних и тех же капитанов, лоцманов, механиков и знал их наперечёт.
Тут Кобылинский, задетый нелестным сравнением поколений, решил, чтобы придать весу своей компании, особо представить деду Евстихию радиста Сашу Уколова как нештатного корреспондента краевой газеты, который непременно напишет про весь тунгусский рейс и, конечно же, про Щёголеву заимку. Он стал трепать его по плечу, гладить по шее, как тот цыган, продававший надутую лошадь.
– Коррыспондей? – вскинул в ответ кустистые брови дед Евстихий и хитро посмотрел на Сашу острыми медвежьими глазками. – Да этих коррыспондеев здесь перебывала уйма. А что они там пишут, мы не читаем. Газеты до нас не доходят. У меня покрупней писаря гащивали. Поеты и романисты! – дед значительно поднял вверх указательный палец. – Вон в рамках висят Казимир, Игнатий, Сергей… Забавные были мужики.
Речники обернулись на стену и действительно узнали на фотографиях, вставленных в большую общую раму, певцов Енисея Казимира Лисовского, Игнатия Рождественского, Сергея Сартакова и ещё нескольких сибирских писателей помельче рангом.
– Призвал их Господь, говорят, Царство им Небесное. Любили наши места, всё с речниками по Енисею, по Тунгуске мотались.
– Нынче поэт да писатель больше на асфальте держится, в такую глушь его не заманишь, – поддержал разговор лоцман.
– Да какая теперь глушь, если вон под горой спутники падают, – отмахнулся дед Евстихий.
Андрею сначала подумалось, что хозяин пошутил насчёт спутников, выразился лишь фигурально, так сказать, но в эту минуту в избу зашёл бородатый мужик лет сорока пяти, в шапке, в брезентовой ветровке поверх фуфайки и, пожелав мира честнОй компании, тотчас подхватил нить разговора:
– В аккурат вчера ещё ступень упала! Вот здесь, за Оленьей речкой. Может, к вечеру сходим туда с племяшом, пошукаем по откосам, по лощинам, глядишь – и повезёт на добычу.
Оказалось, что это приплыл на моторке сын Евстихия Иван, живший отсюда километрах в двадцати, в таёжном посёлке Бурном. Он тоже был знаком старшим корабельщикам. Они шумно поднялись с мест ему навстречу, стали здороваться с ним, обниматься и приглашать его к «нашему шалашу». Иван разделся, помыл руки под умывальником в закутке, за занавеской, и присел рядом с юнгой, с краю стола на табуретку. Его тотчас угостили горькой «с дорожки». Он, не куражась, выпил со всеми и закусил солониной. Андрею хотелось вернуть бородача к разговору о таинственных падающих спутниках, и он уже заготовил вопрос, но Иван опередил его:
– Сперва мы случайно натокались, думали метеорит какой…
– Тунгусский! – вставил артельщик.
– Да. Кусок белого металла, плосковатый, изогнутый и вроде бы как пригоревший, оплавленный. Мы его – в лодку и притащили домой. В сараюшке с полгода лежал. А потом тут один учёный мужик объявился, он взял у меня этот кусок и увёз в Красноярск, на анализ. Через некоторое время получаю от него письмо: должен, говорит, разочаровать вас, это осколок не небесного тела, а вполне земного – от спутника, верней – от ступени ракетоносителя. Во, ёх-калагай! Разочарование, называется. Час от часу не легче. А мы вправду видели, как однажды сверкнуло что-то на небе и в лес упало. После стали замечать: как объявят по радио, что запущен очередной спутник, так, глядишь, кто-нибудь да наткнётся на обломок ракеты у Оленьей горы или в распадке. Вот и вчера опять сообщало радио, что полетел новый спутник. Сегодня к вечеру собираемся с племяшом сходить «на охоту» за белым металлом.
– А зачем он вам, металл-то? – спросил Андрюшка удивлённо. – Коллекционируете, что ли?
– Как это зачем? – Иван посмотрел на него, словно на инопланетянина. – Это ж тебе не бочка из-под керосина, не железная жестянка. Тому металлу цены нет. Сколько учёных голову ломали, чтоб его создать. Он же и лёгкий, и тугоплавкий, и прочный, и нержавеющий. Мы, например, приспособились из него винты к лодочным моторам вытачивать – и не нахвалятся мужики. Никакие мели не страшны. Обычный заводской винт чуть скарчегнёт об камень – и лопасть долой. А этим хоть в скалу подводную врезайся – только звон стоит. Я и сейчас вот пришёл на таком винту и даже запаски не взял, потому что знаю – выдюжит. При любой воде, при любом дне. Вечный!
Рассказ Ивана подействовал на речников ошеломляюще. Они притихли в раздумье над очевидным невероятным. Даже всезнающий лоцман Щукин молчал, обескураженный. Видно было, что и он впервые слышит эту отдающую байкой историю об умельцах с Тунгуски, которые делают винты из спутников Земли. Втайне Андрюшка ждал, что Иван сейчас расхохочется и признается, что он решил просто разыграть корабельщиков, объехавших весь свет. Но Иван, кажется, даже не заметил впечатления, произведённого на гостей. Закончив рассказ, он снова деловито обратился к картошке и солонине, стал мирно и буднично жевать, словно бы ничего особенного не произошло, так, житейский случай…
А дед Евстихий, слушавший его рассказ с рассеянной улыбкой, добавил:
– Тут в посёлке один мужик пилу-циркулярку выточил из того сплаву, дак, говорит, справно пилит, хоть кирпичи подкладывай, и затачивать не надо, почти не тупится.
Этим сообщением дед, похоже, доконал притихших речников.
– Ладно, пойдёмьте покурим, – сказал бывалый капитан, который столько потерял судовых винтов по сибирским порожистым рекам, что и со счёту сбился, но до космических, до вечных ему было далеко.
Гости вышли во двор, точнее – на простор, ибо двора с обычным для здешних селений дощатым заплотом не было. Невдалеке от избы стояли только банька да сараюшка с хлевком, обнесённые кривыми пряслицами на похилившихся кольях, а за ними, докуда хватал глаз, простирался лес, вблизи довольно редкий, смешанный, а далее – плотный, сплошь хвойный, молчаливо-угрюмый, который и зовётся сибирской тайгой. Продолжая обсуждать байку Ивана о небесном металле, корабельщики закурили. К ним подошёл чернявый паренёк, дотоле одиноко бродивший по поляне со своим гремучим транзистором. Несмотря на холодный, промозглый ветер, шапки на нём по-прежнему не было, модная куртка была небрежно расстёгнута, и на груди ярко, как у петуха, горел красно-синий шарф.
– Закури, – предложил ему артельщик Валера.
– Не, я же старовер, мы табаку не признаём, – ответил парень с
лукавинкой в голосе.
– А эту бесову шарманку? – показал лоцман на транзистор.
– Это можно. Это придумано людьми по Божьему внушению. Правда, в избе я не включаю, бабка с дедом не любят лишнего шума. Они привыкли к тишине, к молитве…
– И к искусственным спутникам, падающим на крышу! – хохотнул капитан, а потом спросил не слишком деликатно: – Кстати, почему ты не в школе? Кажется, учебный год ещё не кончился. Или ты не учишься вообще? Не признаёшь светской науки?
– Почему же? – смиренно вздохнул юноша. – Ученье – свет, как говорится, но в наших палестинах это дело непростое. Я закончил девять в Байките – вон за какие вёрсты от дома! По интернатам мыкался. А потом решил помочь деду с бабкой, они уж старенькие стали, тяжело им одним. Взял здесь охотничий участок. Промышлял зимой белку, соболя, лося. Даже с медведем встречался, с шатуном…
– Во-во, охотник-то мне и нужен! – воскликнул артельщик и, бросив сигаретку, взял юношу под руку и отвёл подальше в сторону для секретного разговора.
Покурив, гости вернулись в дом, но снова садиться за стол отказались, несмотря на настойчивое приглашение хозяев. Поблагодарили их за хлеб, за соль и стали прощаться. Лоцман и капитан, на правах бывалых флотских, старших по рангу, обнялись с дедом Евстихием и с Иваном, остальные корабельщики просто пожали им руки. При этом Саше Уколову дед как-то сочувственно подмигнул и сказал с грустноватой иронией:
– Корреспондент, говоришь? Ну-ну… С Богом.
– До будущей весны! – поднял руку к широкополой зюйдвестке лоцман Щукин.
Когда речники вышли, у порога сеней их встретил артельщик со своим заметно раздувшимся баулом, к которому добавилась ещё увесистая матерчатая сумка. Транзистор с нацеленной в небо антенной стоял на крыльце, потрескивая, точно сырые поленья в печи. Парень копошился в сараюшке, стуча какими-то досками. Перед воротами сарая кружком сидели собаки, явно выжидая чего-то. На гостей они только взглянули мельком и, не проявив никакого интереса к их отбытию, снова стали внимательно следить за движениями молодого хозяина. Корабельщики помахали ему, пожелав охотничьей удачи.
– Семь футов под килём! – крикнул он вослед.
Шагая по тропинке замыкающим, Андрюшка оглядывался несколько раз на Щёголеву заимку, на дом с плоской крышей из драни, низенькую баньку и ветхий хлевец, пока они не скрылись за деревьями, и всё думал об этом странном «староверском гнезде», об его обитателях, добровольно обрёкших себя на вечное одиночество, на затворничество в этой далёкой глуши, куда только единожды в год, по весеннему половодью, добираются корабли енисейских речников. А какая первозданная, первобытная тишина, должно быть, воцаряется здесь осенней и зимней порой, особенно в долгие и тёмные ночи, воистину – египетские…
Но потом его мысль перекинулась к забавному юному Робинзону в синтетической куртке и с транзистором в руках, так пронзительно и нелепо громыхавшим в этих тихих заповедных местах, к рыжебородому Ивану, приплывшему на самодельной деревянной лодке из длинных тесин, но с подвесным мотором и с винтом, выточенным в какой-то поселковой кузне из отгоревшей ступени спутника или даже космического корабля… Удивительность, фантастичность этого факта вдруг открылась ему с такой остротой, что он невольно воскликнул:
– Вот тебе и скит!
На что артельщик, семенивший впереди него с тяжёлым баулом, прореагировал весьма своеобразно. Он остановился и, протянув Андрею клетчатую сумку, которую нёс в руках, помимо баула, сказал тоном, исключающим возражения:
– На-ка, понеси!
Андрюшка машинально подхватил сумку и с неудовольствием обнаружил, что весит она не менее пудовой гири. Однако отказываться было поздно, и он затрусил вперёд невольной рысцой.
– Под грузом не стоять! – захохотал артельщик, бодрее шагая теперь за Андрюшкиной спиной. – Тащи, тащи, там и на твою долю кусочек. Это нам на камбуз юный старовер сохатинки отвалил. Но не думай плохо, я не вымогал. Считай, доброхотное даяние. В ответ на нашу крупу, на консервы, на сахар. Тут всё чисто, слово артельщика. Обмен с берегом у речников отлажен давным-давно, задолго до нынешних бартеров. Правда, я себе и за «живые» кое-что прикупил. К примеру, камедь, чагу, белочек на шапку… Надо же парню заработать, верно? И шкурка добрая, выходная… Ну, а насчет скита… Дед сам говорит: какие теперь отшельники да пустынники?
Признаться, Андрюшка слушал болтовню Валеры без особого интереса и даже с неким внутренним сопротивлением. Во-первых, потому, что его мысли теперь были сосредоточены на увесистой сумке, которая тащила юнгу вперёд по склону распадка, так что он едва успевал переставлять ноги и всё боялся упасть. А, во-вторых, потому, что голый прагматизм, почти цинизм того, о чём балаболил артельщик, грубо искажал, разрушал романтический образ таинственного раскольничьего скита, вероломно врывался в дорогой для юного путешественника мир, как те обломки искусственных спутников Земли в пределы сего маленького островка естественной жизни, не тронутой городской цивилизацией. Может быть, последнего островка святой и непокорной Руси, которая теперь осталась лишь в воспоминаниях и легендах.
Глава из повести «ВЕЧНЫЙ КЛАД» [кликните, чтобы прочитать].
ТЯП, ДА НЕ ЛЯП
Глава из повести «Вечный клад»
1
«А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»
Так и хочется разговор о тяпке начать с этой фразы из гоголевского «Ревизора», ушедшей не только «в род и в потомство», но и, по сути, в народные пословицы. Вспомним, что почтенного судью со столь колоритной фамилией звали Аммос Фёдорович, что это был, по замечанию автора комедии, «человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен» и что он «брал взятки борзыми щенками». Ну, а судейские дела свои вёл спустя рукава, по принципу тяп да ляп, отсюда, очевидно, и «говорящая» фамилия.
Хотя, конечно же, далеко не все Тяпкины, коих немало и ныне водится в России, обязательно Ляпкины. В нашем селе, например, жил до недавних времён вполне положительный человек Николай Тяпкин, который не то что взяток не брал, но и сам готов был отдать последнюю рубаху по своей доброте. Бессребреник и работяга. Годами – почти мой ровесник. Но в школе учился тремя классами пониже, приотстав вследствие одного печального случая, прямо-таки трагического.
Коля жил напротив сельской кузницы и частенько заглядывал туда то один, то с бабушкой Евгенией, которая была сторожихой и уборщицей в этом горячем цехе колхоза, в те времена довольно солидном – на четыре горна. Кузнецы относились к мальчишке по-свойски, привечали его, давали ему подержать тиски с поковкой, покачать мехи, раздувавшие пламя в горне. И вот однажды забежал Коля в кузницу и встал перед наковальней, на которой кузнец с молотобойцем в аккурат тяпку ковали, вырубали её из раскалённого диска от лущильника. Кузнец наставлял зубило на древке, а молотобоец ударял по нему молотом и шутливо приговаривал: «Куйся – не дуйся, тёзка Колькина!» Тук-тук-дзинь! – слетали отрубаемые клинышки. И вдруг один заусенец отскочи – да прямо в глаз Коле Тяпкину! Истошный рёв, истерика… Перепуганные кузнецы в охапку мальца – и бегом к сельскому фельдшеру, оттуда – в районную больницу. Но всё напрасно – вытек глаз у бедняги. Так и ходил с провалом вместо глазного яблока, пока стеклянное не вставили.
Но, потеряв глаз, Коля не впал в тоску-кручину. Вырос ладным парнем. Купил гармонь. Стал первым гармонистом на селе. И ещё изрядным частушечником. Сам сочинял частушки, сам пел под гармонь, на районных смотрах самодеятельности не раз призы брал. И такая слава прокатилась о нём по деревне, по району, какой, к примеру, мне со всеми моими книжками век не видать. Стал Коля Тяпкин кем-то вроде местного Васи Тёркина. Кстати, фамилии эти кажутся созвучными не только по форме, но и по содержанию. Корневой глагол «тяпать» не менее заслуженный и боевито-энергичный, чем «тереть». Если, конечно, иметь в виду его главное значение – рубить, сечь, крошить, а не теневое – хватать, отымать, красть, чего мы здесь касаться не будем.
Нас интересует то, от которого родилось и унаследовало смысл «орудие для обработки почвы». Пусть даже и «примитивное», как добавляется в его толкованиях некоторыми современными словарями. Хотя, признаться, мне обидно за вполне уважаемый инструмент, который сопровождает человека многие века и поныне, при всех достижениях науки и техники, остаётся незаменимым. Тем более что не такая уж она примитивная, эта самая тяпка. Внешне – вроде бы, да, ничего особенного: острая железная лопатка, насажанная перпендикулярно на палку, – вот и вся недолга. Однако те, кто имеет солидный опыт обращения с тяпками, наверняка скажут, что при всей видимой простоте они имеют немало секретов.
2
Начать с того, что тяпка тяпке рознь. У одной упомянутая железная лопатка скорее похожа на нож или обрубок ножа. И пластинка эта с острым ребром прикрепляется посредством изогнутых рожек к трубке, в которую вставляется деревянная рукоятка. Достоинство такой тяпки в том, что она лёгкая и обычно, благодаря тонкости ножа, особо острая. Ею можно отлично тяпать, полоть траву, скажем, на дорожках между грядками, вокруг плодовых деревьев, кустарников или в междурядьях картошки, слегка взрыхляя землю. Однако для огребания, окучивания той же картошки она уже не очень сгодится, тем более если земелька в вашем огороде не пухом смотрится, а этакой остывшей магмой. Кстати, тонкие травопольные тяпки-самоделки у нас в селе нередко ковали из старых литовок, вырубая из полотна здоровые сегменты поближе к пятке, где оно пошире и попрочнее. Но бывал и другой исходный материал, скажем, пила-ножовка или клинок широкого ножа-косаря. А однажды тяпка была скована, говорят, даже из настоящего боевого оружия, хотя и холодного. Сам я не видел той тяпки, но к появлению неожиданной «заготовки» для неё был невольно причастен. Тут, друзья мои, целая история, которую стоит рассказать, ибо она имеет прямое отношение к подлинной истории нашего села, да и всей страны.
Когда-то давно, будучи огольцами-школярами, играли мы в соседнем Юшковом дворе в прятки. Суть этой игры, называемой у нас «в тыр-тыр-палочку» или «в палку-закидалку», незатейлива и многим известна. Закидывается небольшой стежок куда подальше, обычно за ограду, и пока голельщик бегает за ним, остальные участники игры прячутся кто где, желательно – понадёжней. Прибегает голельщик, кладёт палку на доску или там чурку на видном месте, громко объявляет: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» – и начинает поиски схоронившихся приятелей. Если, найдя кого-то, успеет первым прибежать к палке и «застукать», приговаривая «тыр-тыр-тыр!», то «найдёныш» становится кандидатом в следующие голельщики. Хотя у него ещё есть надежда на выручку: если кто-то, найденный последним, проворно выскочит, обгонит голельщика и «застукается» прежде него, то тому бедолаге придётся голить снова…
Двор нашего общего приятеля Витьки Юшкова, в котором мы играли, был очень удобен для пряток. В нём, по-кержацки обширном, были навесы и пригоны, баня с предбанником, завозня с высокой подклетью и ещё крытый сарай с сеновалом, а в том сарае – пустой фургон, плетёный короб и длинная, чуть не во всю стену, старинная колода в два обхвата, выдолбленная из цельного листвяка. Словом, укрыться было где. И мы попрятались так, что даже битому голельщику Пашке Звягину, который был постарше многих из нас, жил неподалёку от Юшковых и знал все закоулки их двора, пришлось туго. Из всех игроков он нашёл и застукал только одного, остальные сумели, выскакивая сами, опередить его на дистанции к палке-закидалке. Но самым позорным для него стало то, что он долго-предолго не мог найти последнего из спрятавшихся – и кого! – Янку Шаброва, Шабрёнка – по кличке, младшего по возрасту и наименьшего по росту среди нас, к тому же хромого и тощего, словно заяц.
Но, как вскоре выяснилось, все эти недостатки Янка сумел обратить в преимущества. Когда у Пашки уже лопалось терпение и он, чертыхаясь, было полез на сеновал, куда вообще едва ли мог взобраться Шабрёнок, тот вдруг сам обнаружил себя, завопив на весь сарай:
– Ребя, тяни меня! Чудо нашёл!
Неожиданный вопль этот раздался из столь же неожиданного места, а именно – из-под той самой колодины в два обхвата, прислоненной к стене. Все мы тотчас бросились к ней. И первым чудом явилась нам Янкина грязная пятка, торчавшая в узкой щели между стеной и колодой, куда босоногий Шабрёнок умудрился залезть.
– Тяните, тяните! – торопил он, в нетерпении подергивая ногой.
Пашка, отодвинув нас, встал на колени, ухватил Янку сперва за «ахиллесову пяту», потом за лодыжку и потащил к себе. Вскоре Янка, весь в пыли, в облепленных куриным помётом и пухом штанах, с задранной рубахой, голопузый, появился на свет. А за ним – зажатый в вытянутых руках некий предмет, искоричнева-серый, длинный и кривоватый, похожий на корень.
– Сабля! Настоящая! – выдохнул Янка и захлопал круглыми на выкате, истинно заячьими глазами.
Пашка тотчас выхватил у него эту саблю, выбежал из сарая на свет и, забыв про тыр-тыр-палочку, стал жадно разглядывать находку, поворачивая её так и сяк. Потом потянул за рукоять – из ножен действительно показался, матово поблескивая на солнце, длинный клинок с желобком посередине и лезвием по выпуклому брюху.
Мы окружили Пашку, горя желанием тоже потрогать настоящую саблю, но Пашка не спешил пускать её по рукам. Ко всем, кто был особо настойчив, он поворачивался спиной. Исключение сделал лишь для хозяина двора, и Витя Юшков, повертев оружие в руках, сказал:
– Это, однако, шашка. У сабли изгиб покруче будет, а шашка слегка лишь изогнута. Видите? Эфес, ножны... Такие раньше офицеры носили сбоку. Мне дед рассказывал. Он ведь был красным партизаном в армии Щетинкина. И вот когда они, красные, гнали белых колчаковцев из волости, из Каратуза Казачьего, через наше село, то один офицер заскочил к нам во двор, а потом вылетел через огород вот сюда, в Юшков переулок, там его и поймали. Так это, поди, он успел шашку-то под колоду спрятать. Чтоб не мешала драпать. А может, надеялся вернуться….
Мы выслушали Витьку с разинутыми ртами. А Пашка заявил:
– Это похоже на правду, и оружие надо сдать в сельсовет.
Он решительно взял шашку назад, вставил в ножны и, держа перед собой, пошагал, потом побежал вдоль улицы. Мы гуртом – за ним.
Председатель сельсовета Ян Петрис, активист из прибалтов-переселенцев, по заглазному прозвищу Латышский Стрелок, встретил нас странновато. В ответ на наши сбивчивые рассказы он даже не вышел из-за стола, за которым что-то спешно писал, то и дело тыкая ручкой в непроливашку, а только хлопнул ладонью по столешнице и прострочил своей обычной скороговоркой:
– Да-да, вполне возможно. Холодное оружие врага. Клади сюда. Покажем, кому следует. Может, сдадим в музей.
И всю тираду выдал с таким видом, будто ему каждый день ребятишки приносили по белогвардейской шашке. Явно смутившись, Пашка всё же покорно положил оружие на край стола. Латышский Стрелок кивнул и лишь теперь на секунду поднялся, давая знать, что приём окончен.
Пашка как-то боком отступил к двери, мы дали ему дорогу и не солоно хлебавши пошли за ним восвояси. Сперва шагали молча. Потом раздались было недовольные голоса, выговаривая Пашке, что зря он «перебдел» и не дал подержать редкую находку, но Пашка не ответил, и голоса смолкли.
Про ту шашку мы скоро позабыли. Никаких вестей из сельсовета не поступало, а прямо спросить о ней у председателя никто из нас не решился. И мне её дальнейшая судьба неизвестна. Верно, годы спустя один из друзей детства, с которым мы при случайной встрече ударились в воспоминания, насчёт найденной шашки иронично заметил:
– Говорят, Петрис из неё тяпку сковал. Допетрил. Рубит осот, как врага.
Но мне что-то не верится в столь циничное обращение с «артефактом».
Может, это просто байка, пущенная недоброжелателями. Однако, если всё – правда, то тяпка, должно быть, действительно вышла на славу и рубила сорняки не хуже буйных головушек. Невольно вспомнишь про знаменитую скульптуру Вучетича «Перекуем мечи на орала». Тот символический образ наш Латышский Стрелок воплотил в жизнь буквально…
3
Но мы, однако, слишком увлеклись службой да историями тяпок лёгких, травопольных. Всё же более востребованы и уважаемы у огородников тяпки тяжёлые, с широкими железками, служащие для рыхления почвы и прополки, а главное – окучивания картофельных гнёзд, набирающих силу капустных кочанов и прочего. Подобные у нас ковали обычно из старых двуручных пил, поперечных и продольных, но они всё же оказывались легковатыми. И потому иные мастера пытались делать тяпки из бросовых сточенных сошников или даже топоров, оттягивая раскалённые их полотна на наковальне, но такие, наоборот, выходили излишне тяжеловесными. Самые ловкие тяпки, по общему мнению, получались из дисков от сеялки, а ещё лучше – от лущильника, которые были прямо-таки идеальным исходным материалом – и по толщине, и по качеству металла. Да и по форме: руби диск на сегменты, приклёпывай либо приваривай к ним трубки для древка – и все дела. Лезвие уже почти готово, заточено, и полотно – округло-выпуклое, будто специально для удобства в работе.
Была и на нашем подворье такая тяпка. Поныне частенько вспоминаю её добрым словом. Ибо ни одна из пяти моих тяпок теперешних, фабричных, которые держу на даче, не идёт ни в какое сравнение с нею. Ну, ещё узкие, пропольные, туда-сюда, а что до широких, рыхлильно-окучивательных, то они вообще никуда не годятся – захватом малы и слишком легки, чтобы пробивать наши подзолы, и тупятся быстро – не успеваешь затачивать. Всё собираюсь съездить к нашим сельским кузнецам да заказать тяпку из диска лущильника, которая не тяпка, а чистый комбайн-автомат. Сама по земле ходит и сорняки режет, и картошку огребает так, что ботва стоит по стойке смирно. Про такую хочется сказать не «тяп да ляп», а иным присловьем – «тяп-тяп и – сентяб». То бишь, раз-два и готово: рой созревшие клубни.
Между прочим, в наших краях нередко тяпкой зовут и сечку – тот небольшенький закруглённый заступ на черенке, которым секут, крошат, рубят капусту. Обычно – в большом деревянном корыте. Сечки часто делают с выдумкой – с резным и округлым железком, которое по бокам завершают этакие завитушки под бараний рог, не имеющие никакого практического значения, а только служащие украшением инструмента. Может, кузнецы стараются ради женщин, ведь, как правило, именно они, орудуют сечками, занимаются рубкой и засолкой капусты. А это в сельских дворах – целый ритуал и даже особый осенний праздник, венчающий все огородные дела, ибо капусту убирают последней, в канун или после Покрова, порою уже по снегу.
Рубить капусту хозяйки – соседки или подружки – иногда собираются вместе и артелью переходят из дома в дом. Работают сразу в несколько сечек, дружно, весело, с шутками, подначками, а то и с песнями. Во всяком разе, так бывало в пору моего деревенского детства. Да и не только моего. Вон и писатель наш Виктор Астафьев поведал об этом в своих «Синих сумерках», давших заглавие одной из книг рассказов и затесей. Кстати, слово «затеси», по его объяснениям, он взял у сибирских лесников, охотников, которые так называют метки, затёсы на деревьях, которые делают, идя по тайге, чтобы на обратном пути не заблудиться. Может, и действительно так – в его Овсянке или в северных – енисейских, подтёсовских краях, куда он частенько выезжал на охоту, на рыбалку. В наших же южных, минусинско-каратузских, местах подобные метки чаще называют тяпками. Тяпнул походя топором по дереву на уровне головы – вот и тяпка. Даже и мне отец, когда мы углублялись в лес, допустим, в поисках подходящих деревьев на дрова либо для изготовления будущих оглоблей, вил, санных полозьев и прочего, нет-нет да командовал: «Сделай-ка тяпку на той вон берёзе!» Ну, это к слову… А рассказ «Синие сумерки» очень даже хороший. В нём вроде бы ничего особенного не происходит, просто деревенские бабы рубят сечками-тяпками капусту в общем корыте (всё, как бывало и в нашем Таскине), ведут разговоры о том, о сём и поют тягучие песни. Но столько там светлых чувств, ярких характеров, бытовых картин, поэзии сельского труда и жития, что трогает до слёз…
Вот тебе и «тяп да ляп». Нет, не зря в народе живёт и такое присловье, рождённое, правда, скорее не в наших сибирских местах, а где-нибудь в поморских: «Тяп да ляп – и вышел корабль…»
4
Ну, а вообще-то тяпка-сечка капустная уже, как говорится, другая статья, по меньшей мере – побочная. Главное же значение слова «тяпка» у нас – то самое орудие огородное, земледельческое. Притом именно тяпка, тогда как в других местах этот инструмент чаще зовётся мотыгой. Даже и в словарях любого толка эти слова обычно стоят рядом, буквально через запятую, как синонимы. И нам с вами было бы грешно обойти мотыгу, даром что она происходит от совсем другого глагола – «мотать», в смысле – махать, качать, поводить туда-сюда. А грешно обойти потому, что, во-первых, «мотыга» поныне вполне употребительное название этого инструмента во многих краях России, прежде всего – западных и южных. Во-вторых, оно более почтенного возраста, старинное, даже древнее. Может, потому и значение его пошире и побогаче тяпкиного. Откуда у меня такое заключение? А обратите внимание, что под мотыгой и сегодня понимают не только обычную огородную тяпку, но и кирку, у которой один конец клювом, другой плоский, навроде долота или зубила, поставленный поперёк древка. Такая используется для копки, долбления твёрдой, каменистой либо суглинистой почвы. Так вот подобная кирка-мотыга, как утверждают археологи, была древнейшим орудием для обработки почвы под посев, самым надёжным, хотя и примитивным. Первые мотыги были деревянные или каменные, потом их сменили бронзовые и железные. В исторической науке есть даже такой термин – «мотыжное земледелие», означающий этап, целую эпоху в развитии человечества.
Вон куда мы вышли через тяпкину сестру – мотыгу!
А если подробней рассмотреть такую ипостась её, как кирка, то можно уйти ещё дальше. Тем более что у кирки тоже множество разновидностей и, соответственно, применений в хозяйственной деятельности всех времён и народов. Но мы далеко заходить не будем, а напомним только, что у кирки как рода мотыги могут быть, кроме упомянутого выше, разные иные сочетания рабочих частей – и клюва с заступом, и клюва с теслом, и прямых заступов в оба конца. Последним типом, к примеру, орудуют печники и каменщики, «кроя» кирпичи и каменные плиты. В наших местах, пожалуй, наиболее распространён такой вид кирки, как кайло, или кайла, у которой обычно клюв в одну сторону. В сущности, это остроконечный стальной клин, насаженный на деревянную ручку, который употребляют для откалывания льда или ломких пород, то есть как горный инструмент, хотя им нередко и долбят – кайлят! – твердую почву. А кстати, в южных областях страны можно услышать аналогичный глагол от кирки – киркать. Положим, киркать виноградник. И для рабочих, киркающих эти самые виноградные посадки, имеется даже особое название – кирочники. Про нашенских «кайловщиков» я что-то не слыхал. Видно, в словотворчестве кайла не шибко отличилась. Да и народных пословиц, поговорок, связанных с нею, не назову навскидку. Как, впрочем, и с киркой, и мотыгой. Разве что припомню две-три деревенские присказульки про «мотыгу» – неприкаянного человека, пьяницу и мота, да и то в пренебрежительно-уменьшительной форме. К примеру, «пьяница-мотыжка – первый моторыжка» (то есть мот) или: «пьяница-мотыжка, где твоя сберкнижка?». А то ещё такая: «пьяница-мотыжка замёрз, как кочерыжка…»
Но не хотелось бы мне заканчивать рассказ о тяпках-мотыгах-кирках и кайлах на столько грустной ноте. И я лучше приведу в заключение строки из одного стихотворения Владимира Солоухина, которые мне очень нравились в юности: «Загорелый, в клетчатой рубахе, / Я стою с киркой пред глыбой жизни!» Признаться, даже свою первую книжку стихотворений я было назвал «Пред глыбой жизни», но потом забраковал такое заглавие, сочтя его излишне патетичным и претенциозным, да к тому же заимствованным, чужим. А у хорошего автора всё должно быть только своё, незаёмное. Как и у всякого мастера. |
|